Рефлексия или рефлексия как правильно: Рефле́ксия или рефлекси́я – как правильно? | Образование | Общество
рефлЕксия или рефлексИя?
рефлЕксия или рефлексИя?Путеводитель по сайту
|
Припомнимъ снова и то, что всѣ мы плохо знаемъ по-руски… Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка
***
…Намедни меня спросили, к ак правильно, где поставить ударение в слове «рефлексия » (сущ. 1ж) – рефлексия или рефлексия?
Правильно – рефлексия.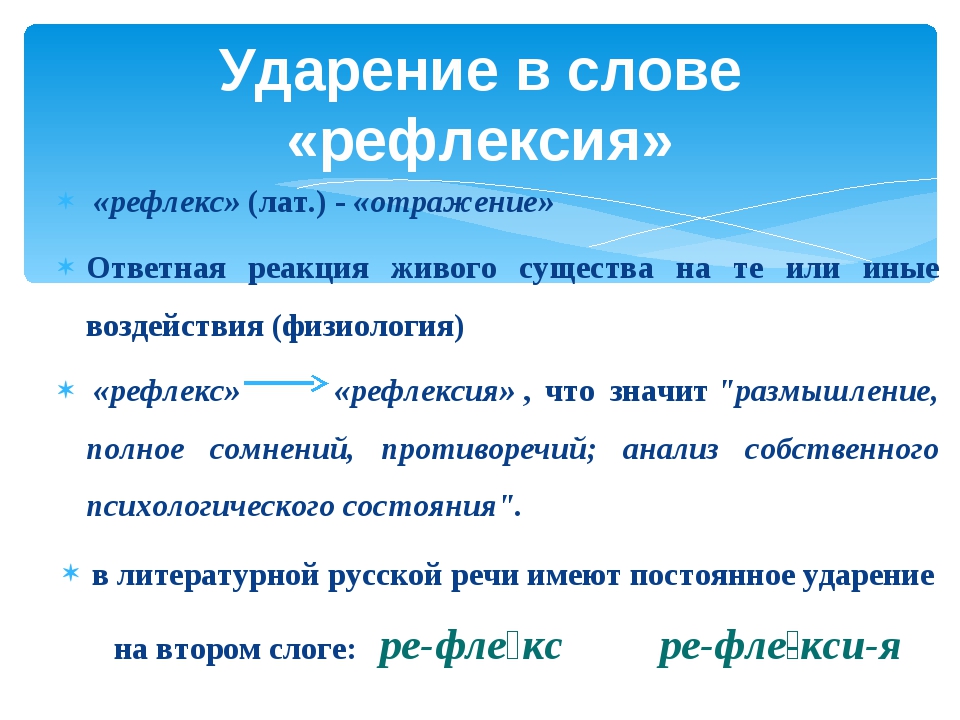
*** Список словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ: 1. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 1288 с. 2. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 794 с. 3. Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 943 с.
4.
Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление.
***
•
Дополнения к фундаментальным словарям русского языка • Как правильно?..
• Новейшая фразеология. Дополнения к сборникам фразеологии и крылатых слов
• Новейший словарь аббревиатур русского языка
• Ономастикон (Словарь личных имен)
• Словарь цветов и цветовых оттенков
|
Путеводитель по сайту
18+
©
Сидоров В.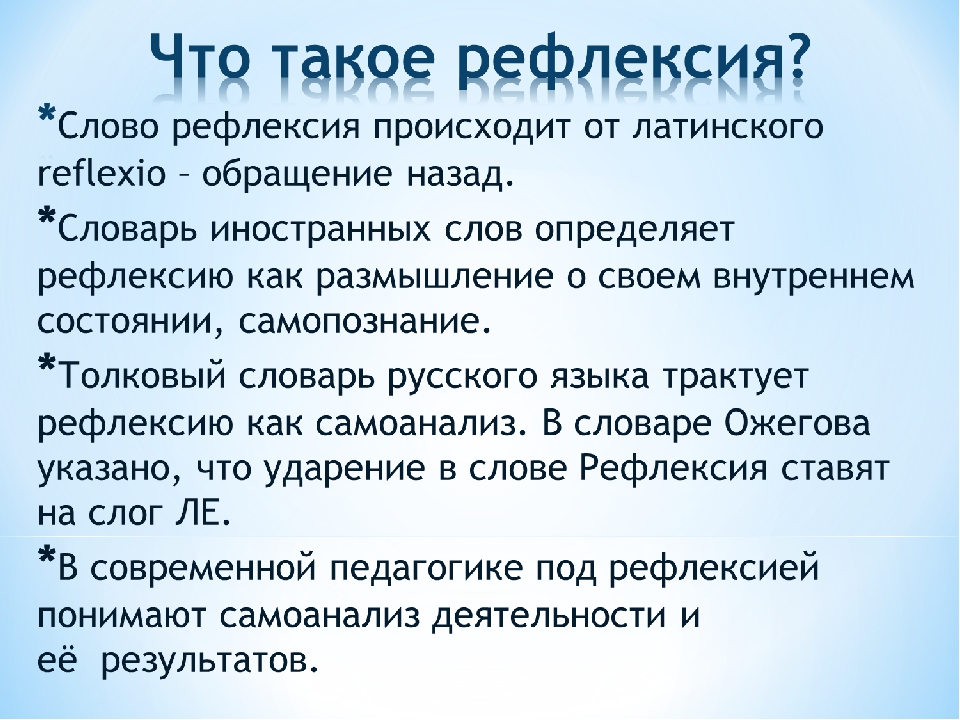 В.
2016. All rights reserved.
В.
2016. All rights reserved.
Авторство всех материалов сайта http://netler.ru принадлежит Валерию Сидорову и охраняется
Развитие команды и рефлексия как управленческая коммуникация тимлида / Хабр
Мы уже
поднимали тему коммуникации как важнейшего навыка управленца любого уровня. Эффективность коммуникаций в компании напрямую влияет на её развитие, поэтому сегодня подробно обсудим два понятия: развитие и рефлексию.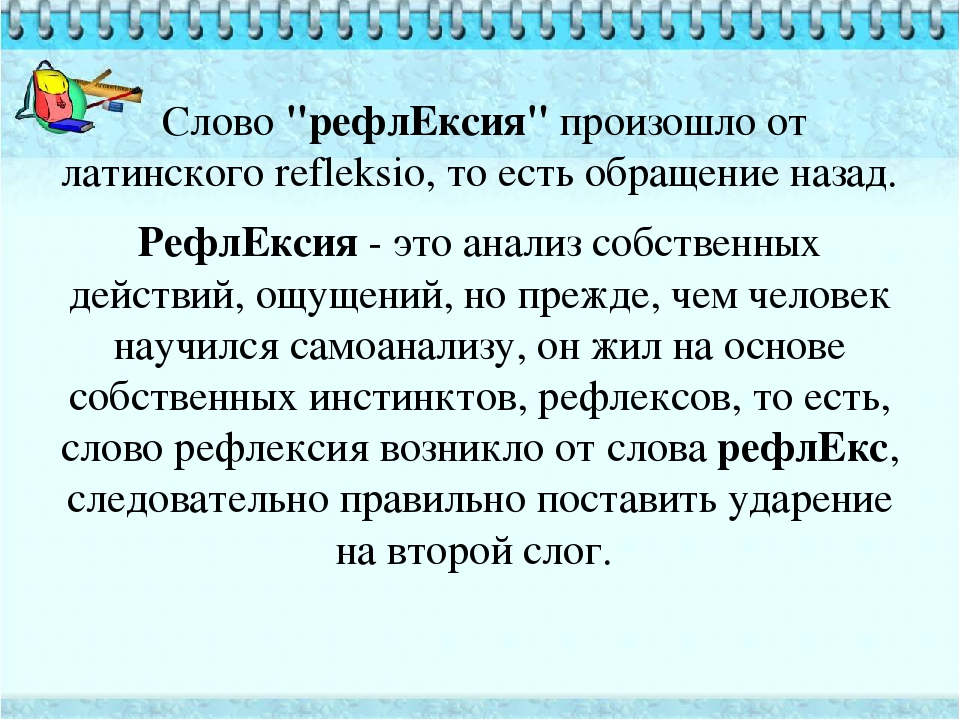
Поговорим, что такое развитие в команде, что такое развитие человека и что такое развитие управленца. Рассмотрим траектории роста разработчика от исполнителя до тимлида. Обсудим, с чем придется столкнуться, что понадобится преодолеть и кем можно стать. Выясним, какие инструменты помогут и выделим пять областей развития тимлида.
Главным инструментом для развития я считаю рефлексию. Это понятие обычно ассоциируется с ретроспективами, обратной связью, performance-review. Но в основе рефлексии лежит глубинный психологический процесс, поэтому предлагаю начать с основ и рассмотреть рефлексию подробнее.
Развитие
Задумывались ли вы, что такое развитие? Что означает понятие «развитие» для вас?
Частые ответы, развитие — это:
- улучшение результата;
- получение новых знаний;
- совершенствование;
- эволюция.
Так чем же развитие отличается от улучшений?
В случае сомнений насчет смысла слова лучше всего сначала обратиться к этимологии.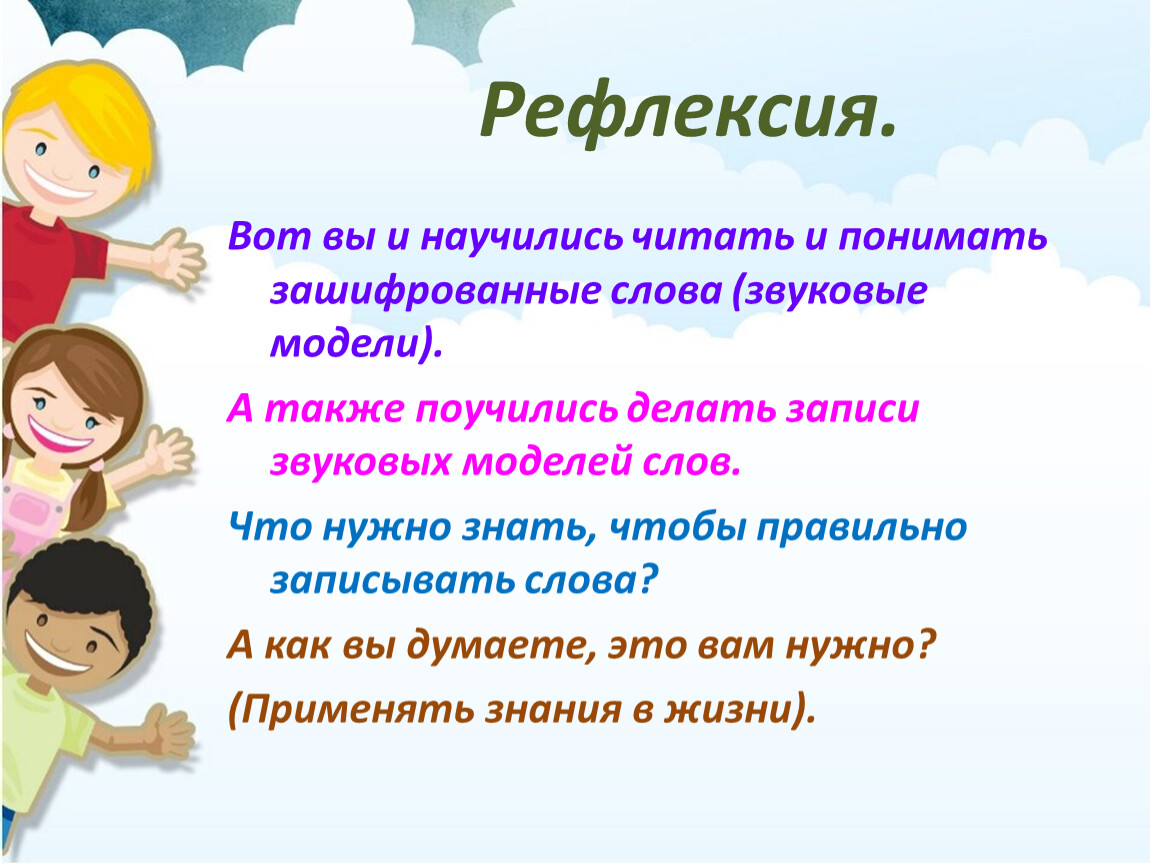 Слово «развитие» в русском языке имеет две части: «раз» и «витие».
Слово «развитие» в русском языке имеет две части: «раз» и «витие».
В Вики-словаре приводится одинаковое значение этого слова по крайней мере на четырех языках (немецком, латинском, французском и русском). Развитие означает, что нечто когда-то было «завито», и теперь его нужно развить. Само понятие относит нас к принципам спиральных динамик, к последовательному распутыванию чего-то.
Если что-то нужно развить, очевидно, сначала оно каким-то образом было «завито». Что же такое «завитие»?
Оказывается, в тех же языках все, что касается «завития», закручивания в рулон, связано с такими словами, как цикл действия. То есть наш опыт — то, как мы действуем, как что-то производим, — все это процесс «завития».
Любопытно поиграться с этими словами, например, английское слово «involve» означает как раз вовлечь в процесс.
Но мы тут обсуждаем не лингвистику, давайте посмотрим, что же такое у нас завивается, что потом нужно развивать, чтобы осуществить это самое развитие.
Деятельность
Рассмотрим схему мышления человека через цикл действия. Существует 4 основных процесса, соответствующих 4 типам коммуникаций, которые мы подробно рассматривали в
прошлый раз.
Цикл действия на этой схеме идет по часовой стрелке. «Я» со своими ценностями (values) получает призыв к действию, который определяет смысл деятельности. Возникают идеи и эмоции, на следующем шаге происходит приоритезация — возникают цели и задачи, мотивация. На стадии, когда задачи определены и их нужно выполнять, нужны знания и компетенции. GitHub, Google, общение с коллегами помогает их прокачать и приступить к этапу исполнения — GTD. Getting Things Done — это performance-зона, в которой собственно и происходит создание ценности, отвечающей первоначальному призыву к действию. Рано или поздно мы получаем результат, который создает новый опыт. Новый опыт дает рост и новые возможности (новые смыслы).
Если мы много раз повторим цикл (а мы в своей работе это делаем постоянно), рано или поздно наш мозг превратится в нагромождение неразобранного опыта.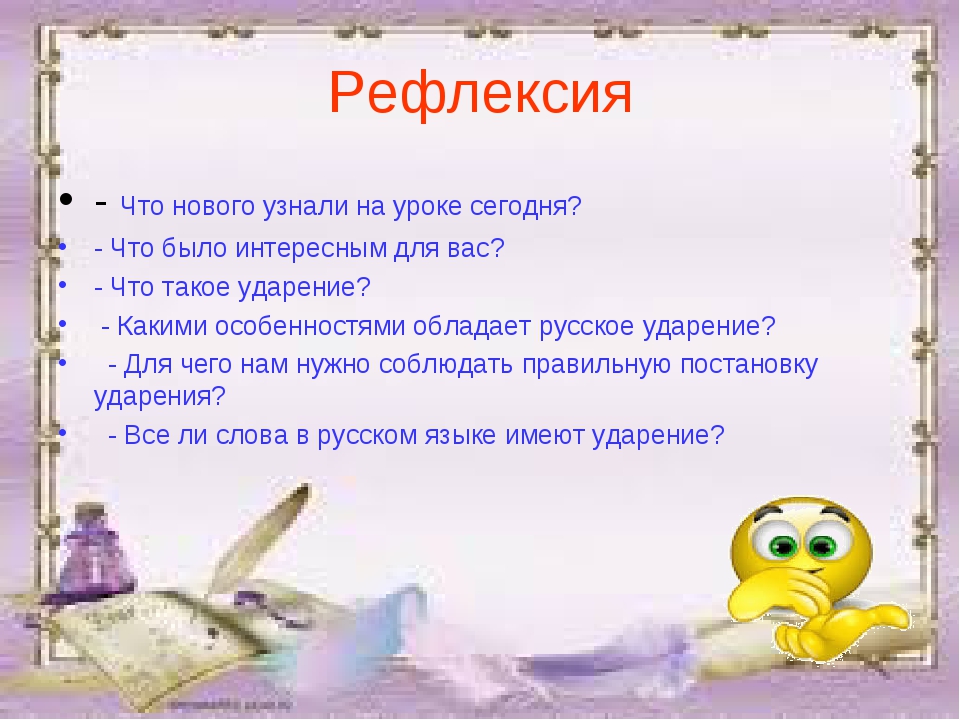 Только один человек, и то с трудом, может в этом разобраться. Он опирается в своих рассуждениях на отрывочные несистематизированные случаи, оперирует, назовем это,
Только один человек, и то с трудом, может в этом разобраться. Он опирается в своих рассуждениях на отрывочные несистематизированные случаи, оперирует, назовем это,
Если в команде все мыслят на основе примеров, то новую задачу в ней обсуждают на уровне: «У меня опыт такой,» — «А у меня другой, и что мы будем делать?».
Когда опыт неразобранный, решить, что делать в новой ситуации, очень сложно. Разговор на уровне обмена жизненным опытом не работает, если нужно найти решение новой задачи. Поэтому, с «завитием», которое произошло на основе опыта, нужно что-то сделать — «развить» его!
Развитие команды
Для того чтобы понять, кто какие роли занимает в групповой работе, обратимся к аналитике, полученной на платформе Seendex на основе масштабных исследований поведения сотрудников российских организаций в ситуации требующей развития.
Картина следующая:
- 72% людей никак не относятся к развитию, им оно не очень нужно.
 Они живут и живут, как-то работают, зарабатывают деньги и о развитии вообще не думают.
Они живут и живут, как-то работают, зарабатывают деньги и о развитии вообще не думают. - Всего 1% людей, назовем их лидерами, всегда стремятся к развитию — им постоянно что-то нужно, они постоянно что-то меняют, изучают.
- Оставшиеся 27 % ведут себя ситуативно: если есть лидер, идут за ним, если нет — примыкают к неразвивающемуся большинству.
То есть, если в организации есть сильный лидер, то и вся компания развивается, появляются новые проекты и интересные задачи, люди меняются, их жизненный уровень постоянно растет, зарплата и влияние увеличиваются. Если такого лидера нет, то эти 27% примыкают к большинству, действуют как все, и все у них движется стабильно, без развития.
С точки зрения управления, практически в любой команде можно найти все категории сотрудников.
В развитии команды есть очень простое правило — можно развивать тех, кто развивается. Нельзя человека заставить развиваться, большинству людей (72%!) это не надо.
Если говорить о ценности рефлексии, она нужна далеко не всем — не все ее понимают и не всех можно в неё вовлечь. Когда вы управляете командой, смотрите, кто перед вами, действуйте ситуативно из соображений здравого смысла. Не надо в этом смысле пытаться делать всех людей счастливыми, потому что не получится.
Всегда в команде будут люди, которые просто работают на результат. Дальше мы посмотрим, что с этим делать. А есть люди, которые смотрят в будущее. Сейчас они могут добиваться хороших результатов или не очень, но зато они развиваются и станут лучше и продуктивнее в будущем.
К сожалению, в русском языке нет подходящего слова-аналога performance. Продуктивность, например, не передает семантику слова в полной мере. Поэтому в эмпирической формуле оставлю performance:
В знаменателе ресурсы, и важной их составляющей является мозг руководителя, что особенно актуально в сегодняшних реалиях управления.
Таким образом в команде всегда есть люди, которые не готовы меняться.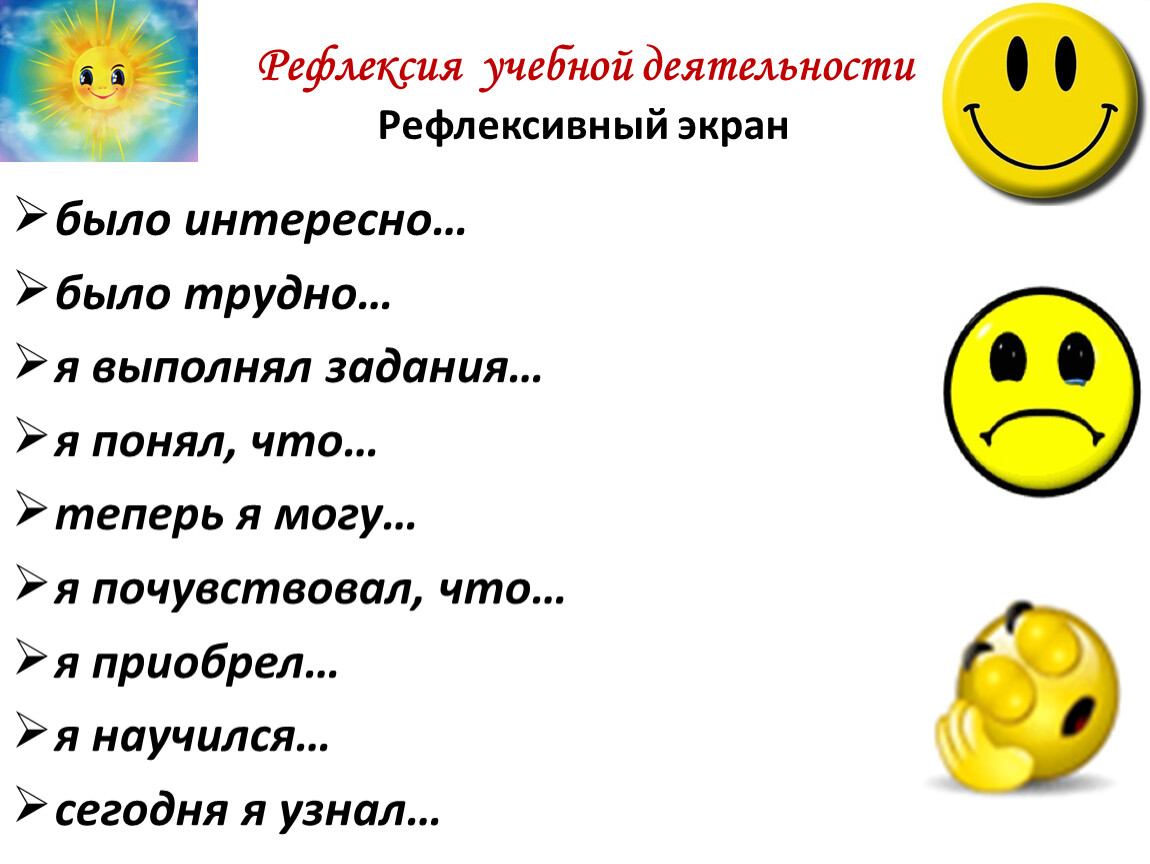 Важно понять, как они работают в команде и чем мотивированы.
Важно понять, как они работают в команде и чем мотивированы.
Есть несколько принятых типов, например, человек служебный. Это достаточно удивительно, но тем не менее такое понятие есть и его активно изучают. Это самый нерефлексирующий и неосознанный тип людей. К счастью, думаю, что в командах разработки таких немного. Человек служебный работает исключительно в жёстких условиях управления, ему нужен контекст: цели, задачи, исполнение, фиксированный график работы, надсмотрщик (супервайзер). Такой тип людей был популярен до XX века — от рабовладельческих времен и до начала активной работы со станками.
Человек исполнительный уже делает так, как ему сказали. Вообще говоря, это свойство есть не у всех, потому что иногда мы любим делать так, как нам больше нравится, или думаем, что «так будет лучше», а не так, как нам сказали.
Следующий этап развития человека неосознанного — человек мотивируемый. Он хорошо работает с KPI и с такой хорошо мотивирующей вещью, как зарплата: сделал больше — получил больше, сделал меньше — получил меньше.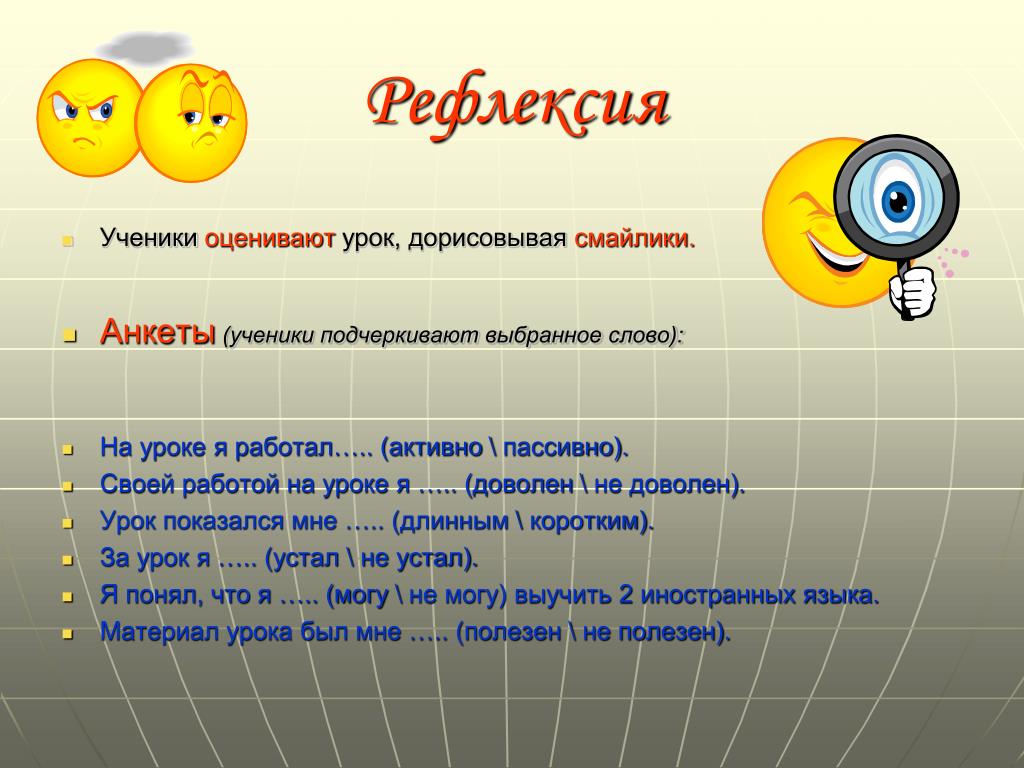 Здесь же работают и другие простые мотивации.
Здесь же работают и другие простые мотивации.
Человеку вовлекаемому нужна идея, смысл работы. Он будет хорошо работать, если есть интересный проект, интересная движуха, хорошая команда или компания. К счастью, в IT-командах таких людей немало.
В целом, кажется, в IT служебных и исполнительных людей почти не осталось, а мотивируемые и вовлекаемые — частая практика.
Чтобы сделать шаг к развитию команды, обратимся к понятию нормы.
На графике по вертикали — количество сотрудников в команде, а по горизонтали — performance по формуле.
Мы живем в век непрерывных инноваций, улучшений и ускорений. 20 лет назад такого не было, но сейчас компания не сможет выжить без постоянного развития. Условно каждый день нужно что-то делать и придумывать новую норму.
На графике есть старая норма (слева) и новая норма (справа). Получается простая формула, чтобы попасть в новую норму, нужно делать две вещи:
- оставлять тех, у кого высокий performance, то есть находится в высшей (правой) части старой нормы — постоянно демонстрирует выдающиеся результаты;
- развивать тех, кто развивается.

Развитие команды становится неотъемлемой частью работы тимлида.
По отношению к норме есть такое выражение: «Только отрефлектированное действие может приобрести норму!» Невозможно из сырого накопленного опыта просто перейти на новую норму.
Опыт нужно отрефлектировать.Как рефлектировать
Дам инструкцию, которой можно следовать.
I. Остановиться
Прежде, чем заниматься любым развитием, нужно остановиться. Невозможно одновременно и делать что-то, и рефлектировать. Это два совершенно разных процесса. Процесс рефлексии всегда начинается в спокойном эмоциональном состоянии, когда человек находится перед чистым листом и в данный момент не занимается никакой деятельностью.
На бегу рефлексировать нельзя.II. Зафиксировать разницу
Когда остановились и приготовились к рефлексии, фиксируем разницу. Вспоминаем: был какой-то процесс деятельности, идеи по поводу ожидаемого результата, и собственно конкретный результат.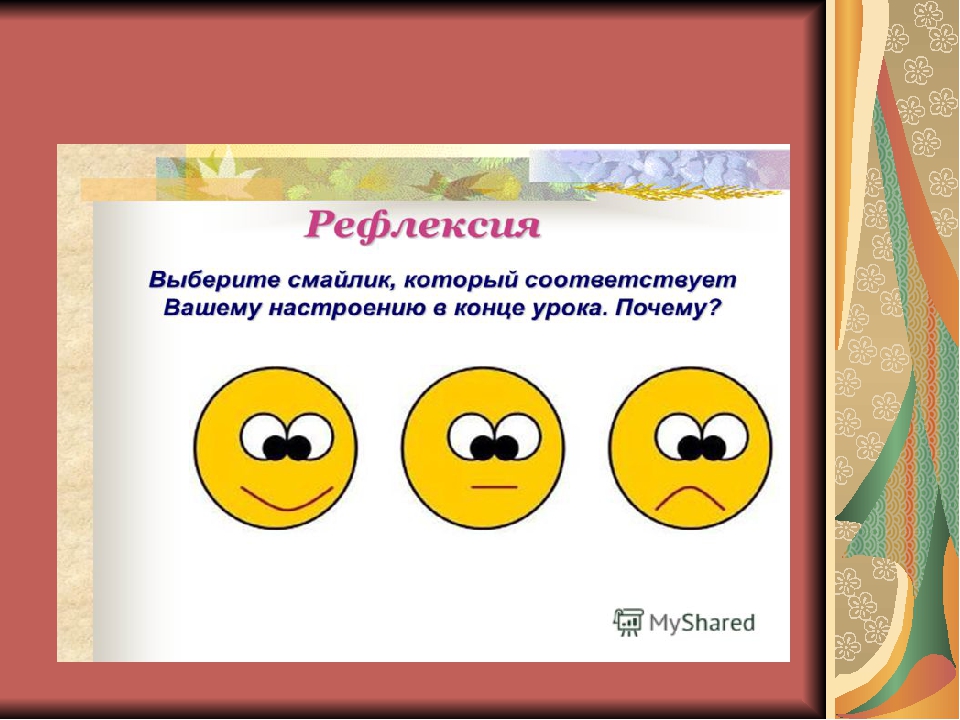
Слева на схеме человек получил призыв к деятельности и был в неё вовлечен. Тогда у него было представление, что если он выполнит проект, то окажется в позиции 1. Иначе говоря происходит целеполагание.
Предположим, пришел заказчик и попросил сделать фичу за неделю. Разработчик поставил целью оказаться в позиции 1 (со сделанной фичей), но реализовать фичу за неделю не удалось, и по факту разработчик оказался в позиции 2.
Первое, что необходимо сделать — это зафиксировать, что есть разница. Для этого важны три вещи:
- Что я хотел, то есть какой был вызов, в чем состоял проект.
- Где я хотел оказаться (позиция 1).
- Где я оказался (позиция 2).
В реальной жизни, если мы не проводим рефлективный процесс, то когда достигаем позиции 2, считаем, что все именно так, как и задумывалось. Человеческий мозг так устроен, что начинает считать, что разницы вообще нет: то, чего мы достигли, — это ровно то, чего хотели. Так всегда происходит, если не осуществлять рефлексию.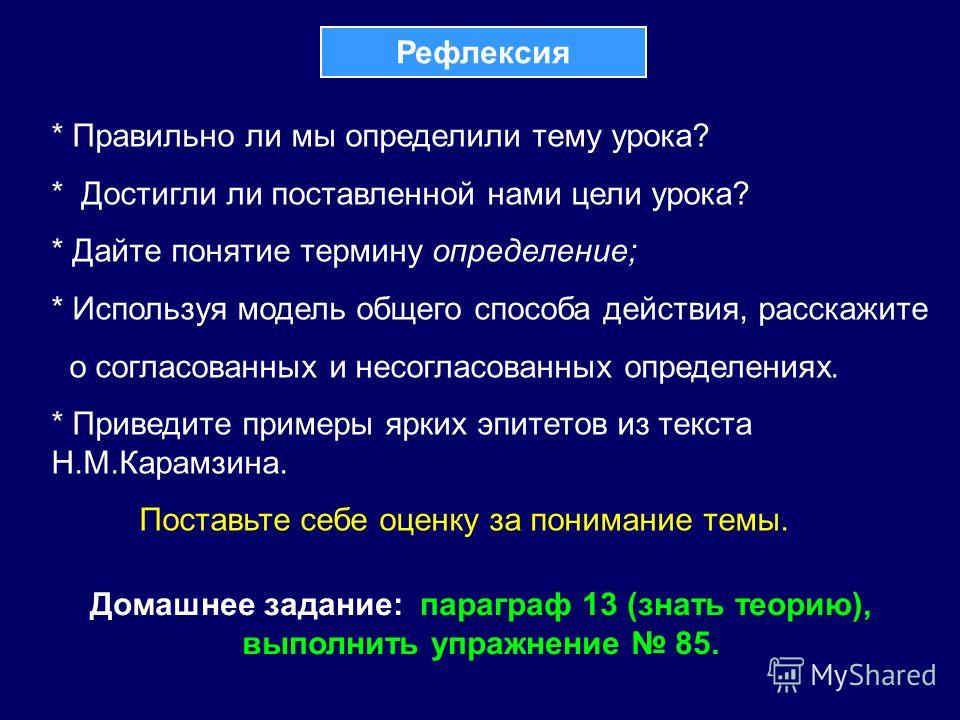
Зафиксировать эту разницу — крайне важный процесс.
III. Провести самоопрос
Дальше берем чистый листок бумаги и отвечаем себе на три вопроса:
- Как я участвовал?
- Что было полезного в том, как я участвовал?
- Что бы я улучшил в том, как я участвовал?
Формулировка вопросов отражает то, что актуально для тимлида. Речь идет об оценке поведения, а не результата, и именно
личного поведения, а не отношения к проекту в целом. Используйте эти вопросы в своей практике прямо в таком виде.
Если вы руководите процессом рефлексии как тимлид в отношении своего сотрудника, то важная составляющая — никогда не критиковать содержание, а только форму.
Рефлексия осуществляется в отношении МОЕГО поведения, то есть того, как Я участвовал в этом процессе, что было полезного в том, как Я участвовал в этом процессе, что бы Я улучшил в этом процессе. Главное здесь форма, а содержание для каждого индивидуально — это его собственные находки и собственный шаг развития.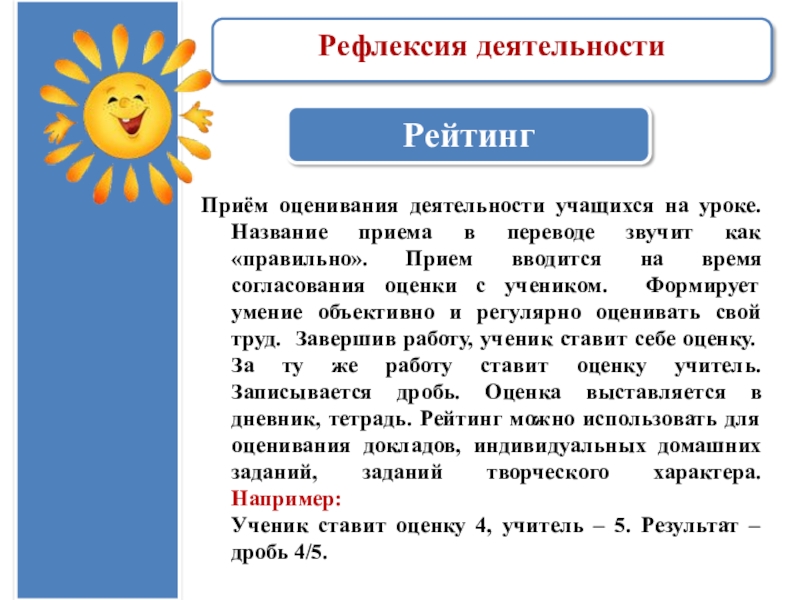
IV. Провести upstream control
Если развернуть процесс деятельности в обратную сторону, окажется, что у нас был некий призыв к действию и идея о том, что мы должны получить на выходе.
Приоритет вопросов для поиска точки затыка идет последовательно справа налево, против течения действия.
Сначала смотрим собственное поведение по отношению к проекту. Действительно ли я действовал, уделил достаточно времени и внимания исполнению… После уровня исполнения, и если на нем все нормально и я сделал все, что от меня требовалось, иду дальше и смотрю на уровень знаний: правильный ли стек технологий я использовал, с теми ли людьми поговорил, те ли статьи прочитал. Дальше смотрю на уровень целей: правильно ли вообще были поставлены цели?
Если с целями было все нормально, они были ясны и мы их приняли, то, возможно, смысл работы изначально не был ясен, или, еще хуже, мы его не разделяли.
Но приоритет в поиске причины всегда идет с обратной стороны — сначала всегда смотрим на поведение.
V. Сделать рефлексию второго порядка
Еще одна схема, касающаяся рефлексии — это работа с ограничивающими убеждениями.
Чтобы понять, есть ли у нас ограничивающие убеждения, можно использовать следующую схему.
Это рефлексия над рефлексией — рефлексия второго порядка.
Если в какой-то момент времени становится понятно, что есть какие-то ограничивающие вещи, с которыми непонятно как работать, то можно выйти на рефлексию второго порядка. Взять и точно так же написать: как я участвовал в написании рефлексии, что было хорошего в том, как я писал рефлексию.
Попробуйте сделать это и увидите, что когда вы начинаете думать о том, как вы думали по поводу того, как вы делали рефлексию, на многое открываются глаза. Это не простая техника, но если честно подойти к оценке самого себя и посмотреть на то, что руководило мной, когда я оценивал самого себя, свои действия, то удастся четко увидеть собственные убеждения, которые образуют стеклянный потолок для развития.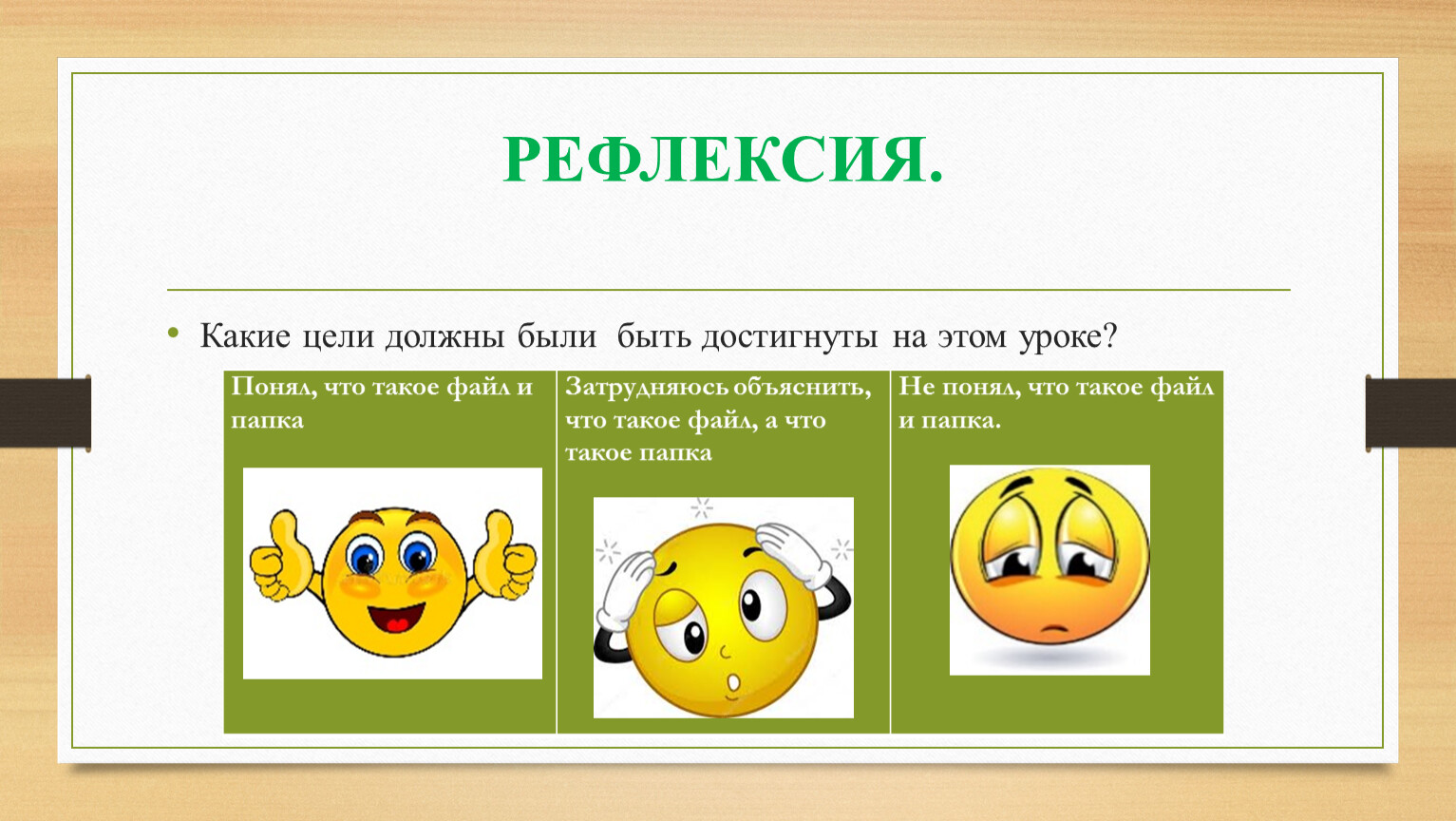
Развитие осознанности
Цикл развития любого человека иерархичен и он, как и рефлексия, идет в обратной последовательности, против течения действия.
Сначала это самодисциплина, потом самообучение, потом самомотивация, и потом осознанность выборов. И эти качества иерархичны. Невозможно научиться самому себе ставить цели, если нет самодисциплины, потому что тогда это уже не цели, а фантазии.
Сначала идет хороший работник, который самодисциплинирован.
Только после того, как человек самодисциплинирован, он может быть квалифицированным самообучаемым сотрудником. На этом уровне сотрудника на надо обучать и рассказывать ему, как нужно делать. Он научится сам.
Только после того, как человек самообучаем, он может быть самомотивирован — сам себе назначать цели и начинать работать с ними. Только на этом уровне возникает способность руководить.
Тот, кто не может мотивировать себя, не может мотивировать других людей.
Это вопрос и для саморефлексии, и для назначения новых управленцев на управляющие позиции.
Следующий уровень развития включает в себя все 4 качества — это ответственный сотрудник, разделяющий ценности компании. Такая категория сотрудников и такой уровень осознанности крайне необходимы, чтобы формировать плоские структуры: кросс-функциональные команды, команды без жесткой иерархии, когда все вовлечены в одно действие и работают, как слаженная команда. Такой высокий уровень осознанности в команде нужно развивать.
Области развития управленца
С управленцем происходит приблизительно то же самое.
Самый главный и сложный переход — переход от исполнителя, то есть ответственности за себя, на уровень тимлида и ответственности за других людей.
В этот же момент меняется тип деятельности. На уровне исполнителя разработчик программирует, пишет код и реализует фичи, а основная performance-зона тимлида другая и находится в области коммуникации.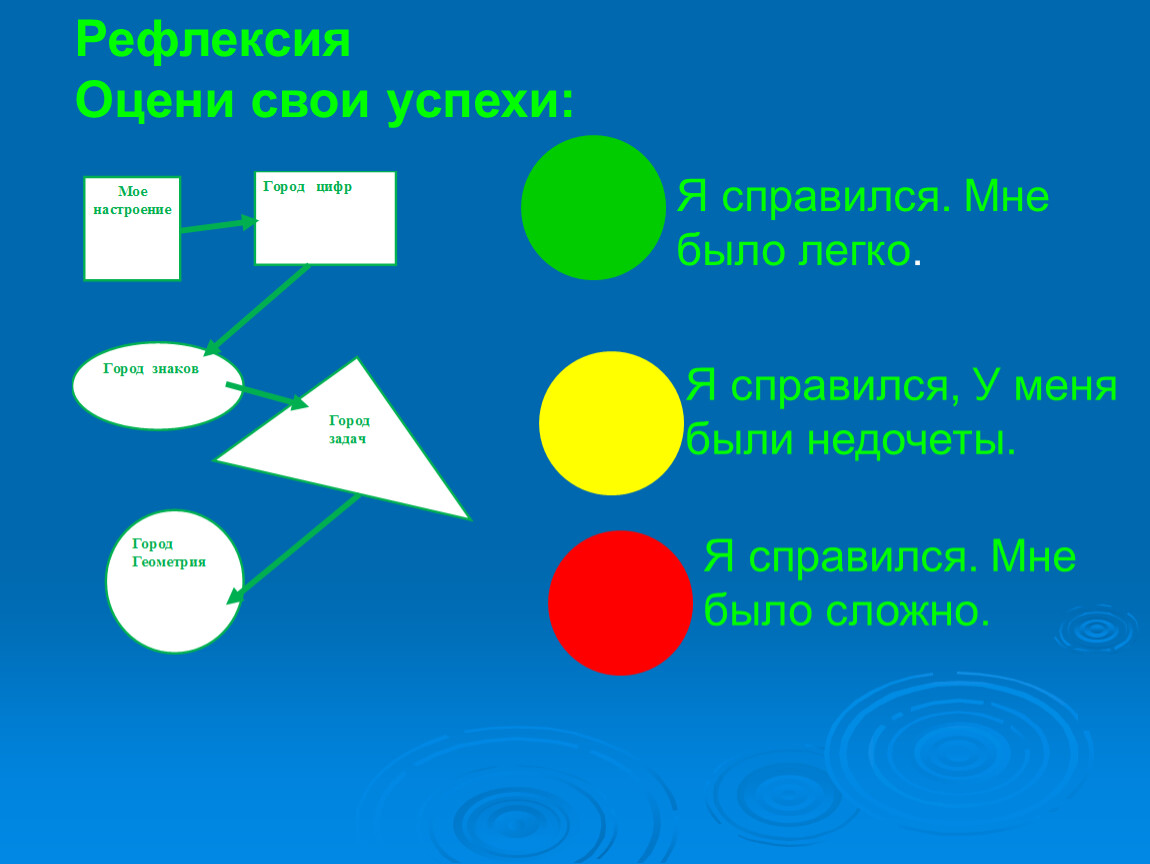 Это достаточно сложный для осознания переход.
Это достаточно сложный для осознания переход.
Следующий уровень — это переход на управление управлением. Это тоже психологически сложный переход, который можно сделать в процессе рефлексии. Если говорить простым языком, это бить себя по рукам за попытки исправить конкретную ситуацию и признать, что ты больше не эксперт.
Когда мы становимся управленцами, то сразу теряем экспертность.
Возникает такая сложная штука, как управление экспертными сотрудниками.
Управление управлением заключается в том, чтобы находить системные вещи, которые можно автоматизировать, превратить в стандарт, в алгоритм. Задача в управлении управлением — это управлять форматами, а не разбирать конкретные кейсы. Это время решать проблемы на системном уровне и строить систему.
Следующий сложный момент — переход на уровень предпринимателя, или, как модно говорить, внутреннего предпринимателя (interprenership). Здесь самое трудное перейти от «делать вещи правильно» к «делать правильные вещи».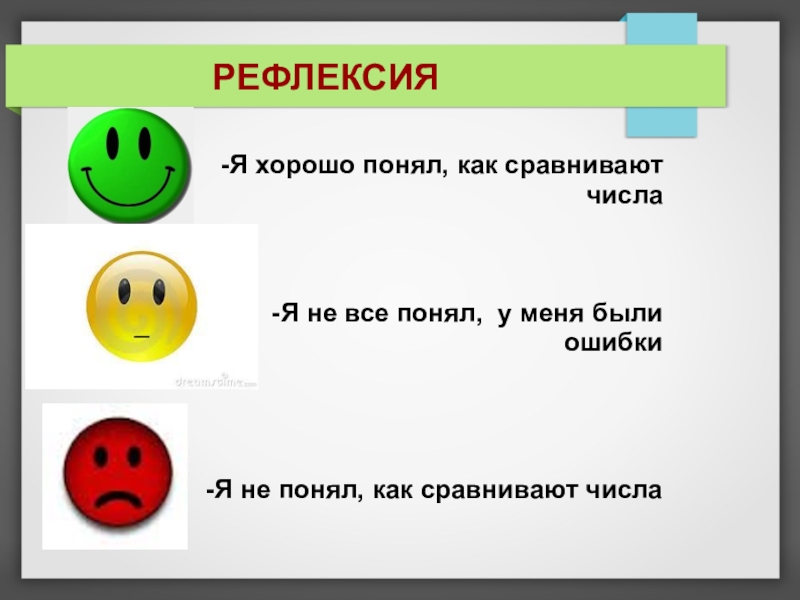
Человек на уровне предпринимателя постоянно разрушает сложившиеся систему, уклад, процессы, потому что всегда необходимо следовать тому, что требует заказчик (рынок). Для нас это важно, потому что digital-бизнес требует быть предельно клиентоориентированным. Фокус на клиенте важнее, чем система, построенная внутри команды. Этим как раз занимается внутренний предприниматель.
Дальше возникает следующий переход: человек на позиции внутреннего предпринимателя начинает понимать, что его одного недостаточно, чтобы обслуживать рынок, — слишком много вариантов. Становится необходима вовлеченность и включение команды, которая разделяет общие смыслы.
Есть модные слова «бирюзовая организация», холакратия, плоские структуры, к ним же относятся кросс-функциональные команды — организации, которые мы обозначаем, как организации будущего.
Для того, чтобы построить команду будущего, нужны две вещи:
- Исполнители, исполнительский уровень которых разделяет ценности и смыслы команды.
 То есть уровень осознанности каждого сотрудника в команде таков, что человек самодисциплинирован, самообучаем, самомотивирован и разделяет миссию компании. Только такая команда может стать звеном в плоской структуре.
То есть уровень осознанности каждого сотрудника в команде таков, что человек самодисциплинирован, самообучаем, самомотивирован и разделяет миссию компании. Только такая команда может стать звеном в плоской структуре. - Лидера такой команды уже нельзя назвать лидером. Он сфокусирован на рынке, умеет выстроить систему обслуживания рынка, когда каждый сотрудник команды сам становится самомотивированным лидером.
Пять областей развития тимлида
Резюмируя вышесказанное, у тимлида есть 5 областей развития:
- Исполнение/GTD. Фокусироваться на исполнении отдельного сотрудника. Если тимлид видит, что в его команде есть человек, который не перформит, то он либо делает работу за него, либо как супервайзер следит за исполнением. Эффективность работы руководителя при этом крайне низкая (1:1) — он фактически замещает собой исполнительский уровень.
- Знания/Компетенции. Развивать профессиональные компетенции в команде.
 Эффективность руководителя при этом значительно выше и составляет условные 1:3. Если развивать знания и компетенции, можно работать с командой от 3 до 10 человек.
Эффективность руководителя при этом значительно выше и составляет условные 1:3. Если развивать знания и компетенции, можно работать с командой от 3 до 10 человек. - Цели/регламенты. Выявлять систематические явления, формировать регламенты, стандарты и алгоритмы на уровне управления управлением. Эффективность руководителя, то есть время, затраченное на результат, условно 1:5. Может быть значительно выше — 1:10, в разных компаниях по-разному.
- Ценности/Смыслы. Трансформировать систему на основе требований рынка, развивать клиентоцентрированность. Такой уровень ответственности и такое направление — это уже реальная работа лидера — управленца.
- Развитие Команды. Высший уровень — это то, к чему нужно стремиться в работе тимлида.
Приходите на Saint TeamLead Conf 23 и 24 сентября в Санкт-Петербурге, продолжим тему и рассмотрим некоторые паттерны поведения в командной работе.Поговорим о том, когда лидерство может выглядеть как токсичность и наоборот и как тимлиду подходить к организации командной работы для решения сложных проблем (в отличие от работы с задачами).
|
Я приношу извинения, если нарушу логику вашего движения, поскольку я не знаю нормы, по которым вы делаете доклады и, наверное, я буду ходить по разным позициям, рассказывая то, что я хочу рассказать. Я хотел рассказать сегодня вам следующее. Во-первых, мне кажется необходимым рассказать кое-что из истории философии — именно там ставилась проблема рефлексии, чтобы вы представляли исток того, что понимается сейчас под рефлексией. Очень многое из нашей трактовки рефлексии пришло оттуда, но мы этого часто не осознаем. Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это попытаться ответить и для себя, и для вас на вопрос, а почему именно сейчас, ни с того ни с сего, стали популярны разговоры о рефлексии? Ведь в 1960-х годах в психологии про неё не говорили, и в 1950-х годах не говорили, и в 1970-х годах про неё почти не говорили, а сейчас вдруг начинают во всю говорить — отчего это так? Этот вопрос и для меня самого был не ясен, и сейчас не совсем ясен, но я попытаюсь с вами в этом разобраться. Итак, рефлексия. Давайте посмотрим, знаете ли вы, кем это слово было введено как термин? И почему? Термин рефлексия впервые был введён Локком. Я подчёркиваю: как термин, но не как слово. Слово — это немножко другое. Он был введён Локком, и можно понять почему, с какой целью он это сделал. Ведь Локк работал в традиции английского эмпиризма. Его основная идея заключалась в том, что все имеют опыт. Любое современное понимание рефлексии основывается на этой глобальной оппозиции, на этом глобальном расчленении — рефлексия отличается, в первую очередь, выделяется как особая организованность от других организационностей мышления тем, что она имеет дело с мышлением о мышлении, с явлениями сознания. В то время как другие организационности мышления, другие типы мышления имеют дело не с этим, а с чем-либо другим. Это кардинальное различение остаётся и до сего времени. Теперь можно подумать вот над каким обстоятельством — а почему Локк вдруг выбрал этот термин — рефлексия? Это тоже важно понять, что такое рефлексия как слово, каково его этимологическое значение. Слово рефлексия пришло к нам из латыни, и буквально оно обозначало внутреннее обращение на себя, внутренний рефлекс. Здесь не трудно представить себе это слово в переносном значении. Поэтому уже в латыни возникло переносное значение слова как отражения. И вот это переносное значение, понимание рефлексии как отражения и было использовано Локком, когда он взял этот термин для обозначения внутреннего опыта. Это важно понять, потому что современная рефлексия как отражение, предложенная первоначально Локком, вызвала уже тогда большие споры между ним и Лейбницем. Этого я касаться не буду, но именно с этим пониманием рефлексии боролась немецкая классическая философия, развивая своё представление о рефлексии. Боролась с механизцизмом и пассивностью в понимании рефлексии, которое первоначально привнёс Локк. Кант — это очень существенный момент для понимания рефлексии. Какой это момент? Кантом разрабатывалась идея схематизмов мышления. Схематизмы мышления — это опыт, упорядоченный через пространственно-временную сетку ощущения, представленную различными категориальными схемами. Что очень важно для схематизмов, чтобы их понять не только автоматически. Действительно, 99,99% того, что мы делаем, мы делаем автоматически, то есть согласно некоторым схемам, имеющимся у нас. В нас работают некоторые схемы. Ну а если схема не срабатывает, если она почему-либо неадекватна ситуации, что тогда? И вот здесь происходит переход от схематизма-I к схематизму-II. Это моя интерпретация, Кант такую форму не давал. И здесь рефлексия выступила в функции определённого инструмента, позволяющего переходить от схематизма к схематизму. Кант называл это творческим воображением, но более часто он называл это — в том числе и рефлексией. Вот это была такая капитальная идея, потому что в ней содержится масса вещей, которые только сейчас попадают в термин рефлексия. Отсюда вытекает продуктивный или творческий характер рефлексии. А в общем-то, все мы относимся к этому термину с некоторым придыханием, какое-то новообразование при этом появляется. Самошкин: Было ли добавление к пониманию рефлексии Кантом — восхождением? Алексеев: Нет. Для Канта вообще представление о дедукции категорий в смысле Гегеля не было. У него не было понимания метода восхождения от абстрактного к конкретному. Для него это было бессмысленно. Кант был плюралистом. Самошкин: Но при переходе от схематизма к схематизму проявляется особого рода средственность. Алексеев: Это неверно. Понимаете в чём дело. Мы же движемся очень медленно. Нам кажется, что быстро. Кардинальные решения, кардинальные идеи идут и рождаются незаметно. С современной точки зрения, то, что рефлексия выступает в функции перехода от схематизма к схематизму, от нормы к норме кажется достаточно простым и ясным. Но потребовалась колоссальная работа Канта, чтобы показать и создать эту схему. Самошкин: Можно ли понять Вашу интерпретацию, что рефлексия — какого-то рода механизм перехода к схематизмам, адекватным новым видам деятельности, новым условиям? Алексеев: Функция была задана, а схематизма не было. Схематизм — это уже более у Фихте, к которому я сейчас и хочу перейти. Я подчёркиваю, что это все очень огрублено. Ильясов: То есть встать по отношению к ним в объективированную позицию? Алексеев: А как это возможно? Смысл-то здесь простой, казалось бы — в каждом конкретном случае мы можем указать: это мышление, вот так-то и так-то мы мыслили, таким-то образом. Ильясов: На эмпирическом уровне это можно описать? Алексеев: На каждом конкретном случае это можно разобрать. А как ответить в общем виде? Вот это было колоссальной, с моей точки зрения, проблемой в философии. Почему мы Фихте считаем великим философом, несмотря на то, что он вроде бы ничего не делал, а восхвалял собственное Я, которое непонятно каким образом существует? И Фихте ответил на этот вопрос. Я не думаю, что это единственный ответ, но, во всяком случае, он был красив. Фихте оказал: Для того, чтобы быть свободным от собственной мысли, я должен мысли свои положить как объект. И это единственно возможное решение. Он считал, что другого выхода нет. И здесь фактически мы имеем рассуждения, не проработанные психологически. Дело в том, что мысль должна быть объективирована. Объективация мысли, когда мы её кладём как объект, даёт нам возможность и относиться к ней как к объекту. Самошкин: Можно ли понять, что Фихте будет по отношению к рефлексии в гносеологической позиции? Алексеев: Наверное, можно. Если хотите, можно. Я поэтому заранее говорил, что внесу деструктивный, анархический момент. Философия Фихте — это философия активности. И при этом у него было совершенно определённое понимание мысли, которое, может быть, и дало ему возможность решить этот вопрос. Он говорил, что мысль всегда есть некоторое построение. Всегда. Даже если она реализуется чисто автоматически. Я не буду подробно рассматривать тот огромный материал по рефлексии, который имеется у Гегеля, а совершенно произвольно для себя выберу один момент. Гегель различил реальную или предметную рефлексию и рефлексию формально-рассудочную. Это различение представляется очень важным и существенным. Дело в том, что часто — и у нас сейчас, рефлексию понимают как осознание. Но осознание не обязательно является рефлексией. И когда мы имеем формально-рассудочную рефлексию, я потом специально это ещё покажу, то она в некотором смысле аналогична самокопанию в собственных мыслях. Tо есть, сказал Гегель, рефлексия тогда имеет смысл и возникает, когда для этого есть соответствующая задача. Задача, которая является важной, актуальной и должна быть решена в практике мышления. И, наконец, последний узелок, который я хочу выделить — это Маркс и Энгельс. В первую очередь, Маркс с его пониманием мышления, с его историческим пониманием мышления, не в смысле Гегеля, а в смысле связки мышления с реальным бытием и пониманием рефлексии как исторически организованном мышлении. Самошкин: Может быть не эти схемы, а другие? Алексеев: Любые схемы. Я взял случайным образом. Мы считаем, что иначе мыслить нельзя, а почему? Мы проецируем на прошлое наши схемы мышления и видим, что они мыслили, как мы. Злотников: Вы хотите сказать, что в историческом плане сама форма мышления развивается? Алексеев: Да, организованность мышления. Можаровский: Но Ваши рассуждения доказывают, что рефлексии могло не быть, но не на то, что её действительно не было. Алексеев: Позже я покажу это на эмпирическом уровне более конкретно. Остановимся на тех моментах, которые тем или иным образом присутствуют в нашем понимании рефлексии и которые то или иное наше понимание рефлексии определяют. Не обязательно, когда мы употребляем термин рефлексия, мы имеем в виду все эти моменты. Но в тех трактовках рефлексии, которые сейчас имеются, мы всюду можем найти те исходные корни рефлексии, о которых я сейчас говорил. И в общем для того, чтобы действовать и рассуждать о рефлексии достаточно культурно, мы должны знать, откуда, что и как пошло. В этом и есть смысл первого кусочка, который я хотел вам рассказать. Злотников: Сейчас налицо преобладание новых форм мышления? Алексеев: Да, во второй части я подробней отвечу, почему мне так кажется, кстати, там рефлексия получит и другое определение. Ильясов: И там вы расскажете, какие элементы могли существовать в плане исторического развития? Алексеев: А это в третьей части. Я специально дам некий критерий рефлексии. Злотников: Аристотель вывел из своего мышления правила формальной логики. Делал ли он при этом акт рефлексии? Алексеев: Я понял, что вас этот вопрос заинтриговал. Я бы ответил так. Акт рефлексии мы Аристотелю можем приписать с точки зрения всех критериев, которые мы введём. Но организованности мышления — такой не было. Это было то, что можно было считать праэлементами. То есть то предшествующее, из чего мы сейчас собираем рефлексию. Элементы были — сравнение, сопоставление, обстановка действия — всё это было, но они не выступали как то, что необходимо людям. Самошкин: Перед самим переходом — можно ли понять организованность как степень совершенства какой-то системы? Алексеев: Нет. Тот аспект рефлексии, который в своё время специально пытался исследовать Владимир Александрович Лефевр и который вызвал резкую критику и с моей стороны и со стороны Г. П. Щедровицкого. В. А. Лефевр, действительно, организованность понимал в этом духе. Он противопоставлял её специально энтропии. И выводил своё понимание рефлексии из этой дихотомии, из этого противопоставления. Рефлексия понималась как мера организованности. Самошкин: А как Вы понимаете организованность? Алексеев: Примерно в таком смысле, как надо понимать тип животных. Это очень интересная аналогия, страдающая, как и любая аналогия, изъянами. Вот, например, мы берём историю развития животного мира. Ильясов: Реально действующая. Алексеев: Ещё пример, погрубее. Не умеет человек рефлектировать — он будет считаться неполноценным. И это обязательно войдёт в норму его мышления, его деятельности. Самошкин: То есть это уже будет в культуре как ценность? Алексеев: Организованность всегда существует именно в культуре. Самошкин: Вы сейчас проделали оригинальный интерпретационный историко-критический анализ. Чем Вы методически определялись, когда проецировали своё видение рефлексии по векам? Алексеев: Ещё раз подчеркну своё понимание. Скажем, прекрасная статья А. П. Огурцова в Философской энциклопедии про рефлексию. Но, с моей точки зрения, он не прав полностью. Он начинает разбор рефлексии с Аристотеля. И это не только моя точка зрения. Начинать разбор рефлексии с Аристотеля, с моей точки зрения, бессмысленно, исходя из всего сказанного выше. Теперь я перейду ко второму кусочку изложения и задам такой вопрос: почему к концу 1970-х годов вдруг все бросились на рефлексию? Почему раньше психологи весь этот комплекс идей (да он для них и не существовал), почему это богатое содержание, эта коллекция идей для психолога представлялась как спекуляция философская, которая к реальной психологии отношения не имеет и иметь не может? Мне могут задать вопрос, а могу ли я это аргументировать? Да, очень просто, простейшими средствами науковедческого анализа — возьмите до 1960 года журнал Вопросы психологии, вы там не увидите этого слова, нет и соответствующих идей. Почему это так? Задумавшись над этим вопросом, я должен был ответить для себя на такой вопрос: если абстрактный смысл был ясен с самого начала, то в реальности ещё не возникла такая новая организованность мышления как рефлексия, то есть она не стала достаточно доминирующей. Она появлялась где-то в островках, и поэтому для психологов, которые изучают общее мышление, её не существовало. Это абстракция, вытекающая последовательно из последнего, пятого тезиса. А конкретно, каковы же условия, фактические условия, породившие необходимость рефлексии? Причём, заметьте, эти условия должны обладать, по крайней мере, двумя основными особенностями. Первое и самое существенное условие — Всё должно произойти естественно, так, чтобы все поняли, что без этого ничего дальше не могло бы быть. Второе — это представляющееся нам как само собой разумеющееся условие должно нами же отличаться от предшествующего, то есть от того, что раньше казалось естественным, а сейчас кажется неестественным. К примеру, обратите внимание на фантастическую литературу начала XX века. Главный герой — одиночка, который вершит многие, огромные по значимости дела. Он становится личностью где-то к двадцати годам и далее уже не развивается. В других культурах это выражается в понятии каста. Сейчас же какую деятельность ни возьми, допустим, профессионально-производственную, культурную (здесь ужас что делается — разные средства массовой информации заставляют нас по-разному относиться к различным формам поведения) — всё ведёт нас к быстрому темпу изменения состава и характера реально реализуемого действия, включая и мыслительное действие. Так вот. Эти новые изменившиеся условия, некоторый набор исходных расчленений-рефлексий, который я продемонстрировал в первом куске, сдвигают ли они наше понимание рефлексии? Но посмотрите, какой происходит примечательный сдвиг — психология не может рассматривать рефлексию как определённую организованность мышления. Психология решает другие задачи. Она решает задачи диагностики, обучения, терапии и так далее, и поэтому с психологической точки зрения рефлексия выступает как условие, в котором, реализуется определённая способность. Рефлексия начинает трактоваться, как бы её ни исследовали, как определённая способность мышления. Как способность к рефлексии. Если философия (или методология) рассматривает рефлексию как особую историческую организованность мышления, то при психологическом подходе мы начинаем трактовать рефлексию как некоторую способность, тоже в историческом плане. Но тогда мы должны ответить на вопрос, а в чём же эта способность состоит? И эти условия надо проинтерпретировать как-то психологически, на психологическом языке. Мне кажется, что кардинальной здесь может быть следующая характеристика: основным содержанием рефлексивных процессов является установление отношений. Почему мы должны говорить об установлении отношений? Во-первых, потому, что если действие А не является действием изолированным, а предполагает какие-то другие действия (допустим действия В и С), то для того, чтобы действие А было эффективно, адекватно, мы должны заранее связать это действие каким-то образом и в каких-то деталях и сторонах с действиями В и С. Теперь вновь немного о втором условии. Вот эти В и С всё время меняются. Поэтому нам устанавливать отношения каждый раз нужно заново. Ведь когда отношения установлены, то никакой рефлексии нет — обыкновенный схематизм или автоматизм мышления — применение общего правила. А если те деятельностные образования, с которыми надо устанавливать отношения, всё время беспрерывно меняются, то, действительно, надо всё время эти отношения устанавливать заново. Деваться некуда! Поэтому, исходя из этой общей идеи, я и определил рефлексию вообще как процесс установления отношений по содержанию. То есть — способность к установлению отношений, с психологической точки зрения. Конечно, эта способность к установлению отношений предполагает всю предшествующую парадигму (парадигма — это не что иное, как некая схема грамматических правил, падежные окончания…) Этот процесс обращения к предыдущей парадигме предполагает и все предшествующие пункты, и процесс обращения мышления на мышление, и переход от схематизма-I к схематизму-II, и объективирование своих мыслей и так далее. Но он предполагает и некоторые более конкретные содержания применительно к психологической задаче. Скажем, это не просто процессы осознания, как у нас часто трактуют рефлексию, не верно понимают под этим и определённые процессы мышления, которые связаны с установлением отношений. Вполне возможно, что и я делаю в своём определении некоторую ошибку. Но сейчас наиболее частая ошибка — это ошибка экстраполяции, ошибка того, что узкое содержание очень широко распространяется. Возможно, я делаю другую ошибку — сужаю понимание рефлексии, но такое сужение понимания рефлексии даёт мне как психологу право жёстко с ней работать, поэтому я делаю это совершенно сознательно. Я приведу несколько примеров, показывающих важность вот этого установления отношений. Современный человек всё время попадает в новые системы любой деятельности. Это характерная особенность современного человека, и чем дальше, тем больше эта особенность будет проявляться. Причём совокупности людей совершенно различные, как реальные, так и идеальные, так как развитие массовой коммуникации достигло невиданных масштабов. Ведь чисто психологическая зарисовка — несколько человек едут в троллейбусе и обсуждают фильм, увиденный по телевиденью, — они устанавливают некое отношение с другим, которого не было ранее, и в данном случае рефлектируют, потому что они сталкивают свои и чужие нормы поведения, которые были представлены на экране. Может возникнуть вопрос, а почему люди решили со всеми устанавливать отношения? И здесь мы переходим к цели рефлексии. Только таким путём мы можем проводить саморегуляцию, то есть регуляцию управления своим поведением и также управлять, регулировать поведение других людей. Без установления этого отношения ни саморегуляция, ни регуляция других не представляется возможной. А вот в этом быстро изменяющимся, тесно взаимосвязанном мире, который всё более и более становится, в этом смысле, человеческим миром, то есть человеческие отношения выступают всё более и более на первый план, вот эта способность к рефлексии, к установлению отношений всё более и более становится значимой. И ещё два важных моментика. Здесь важны оба слова — установление и отношения. Я остановлюсь на первом слове — установление — это всегда процесс. В данном случае рефлексия выступает для психолога с процессуальной стороны, со стороны для психолога чрезвычайно важной и существенной. Злотников: А какова связь между рефлексией и отражением? Алексеев: Эта связь даже есть в русском языке, рефлексия — рефлектор, а что такое рефлектор — это отражатель. Злотников: А не есть ли это одно и то же? Алексеев: Думаю, что нет. Михайлов: А по отношению к мышлению? Алексеев: Установление отношений не есть отражение. Установление отношений, с психологической точки зрения, есть активное нечто, которое конструируется нами, я бы сказал, что я в данном вопросе фихтеанец. Идея построения собственного действия, активность мне более импонирует. А в отражении есть какой-то механистический привкус, и он мне не очень нравиться, хотя я и сам пользуюсь термином отражение. Самошкин: В Вашей трактовке рефлексию можно понимать как какую-то психическую реальность? Алексеев: Как способность. Самошкин: Но способность в теоретическом плане, как теоретический конструкт для меня имеет другую загруженность, а в данном случае Вы говорите о сущности рефлексии. А раз это сущность, то она имеет за собой ту реальность, которую можно проверить эмпирически. И тогда возникает вопрос: ведь никакую способность без её реализации мы не увидим, а ведь одно дело осознаваемые, а другое — неосознаваемые способности. Или по-другому: если это способность, а способность есть психическая реальность, то что это за реальность? Алексеев: Понимаете, с моей точки зрения, любая способность — есть способность к действованию, безотносительно к тому, чему это принадлежит, к действию интеллектуальному, к действию с предметами, к действию художественному. Михайлов: Вопрос о соотнесении рефлексии с мышлением. Или рефлексия — это новое психическое свойство человека, или это на уровне мышления новый тип организации? Алексеев: Способность всегда проявляется в новом типе организации мышления. Но что значит новый тип организации мышления? Из чего, в чём он состоит? Во-первых, некоторая направленность мышления. Михайлов: Рефлексия — это суть новое понятие, а психические процессы — это останется мышлением, огрубляя. Алексеев: Понимаете, я вообще не работаю в категории психические процессы. Ильясов: Заметьте, ребята, Никита Глебович демонстрирует нам один из видов работы, который мы с вами разбирали. Психология — это наука о психике в той мере, в какой она может быть рассмотрена как компонент деятельности. Предмет психологического исследования — это особый ракурс деятельностного анализа. Алексеев: Ведь что такое психология: наука о психике? С точки зрения формальной логики получается логический круг. И здесь и там один и тот же корень — псих. Поэтому я и не понимаю, что такое психические процессы. Ильясов: Термины и задаются по кругу: психология — есть психика, и на неё мы наводим логос, и получаем психологию. Алексеев: Прошу прощения. Я не буду ввязываться в вашу сферу, вы здесь понимаете больше, я скажу проще — что такое психические процессы, я не понимаю, поэтому не берусь об этом рассуждать. Ильясов: Но здесь есть один момент, интересный, как мне кажется… Алексеев: А вот раскрыть, извините, я вас перебью, более точно, что такое организация, можно, но чуть подальше. Дело в том, что надо понять логику моей сегодняшней с вами беседы. Я сначала должен был вам показать самые общие представления общефилософские, потом перейти на более конкретный общепсихологический уровень, а затем выстроить вам моё понимание, совершенное или несовершенное, уже на конкретно-психологическом уровне, чтобы вы поняли: из каких более общих позиций я исходил. Ильясов: И всё-таки интересно остановиться вот на чём. Я с Вами согласен, что есть устоявшиеся образования и неизменные. Но термин рефлексия через всю историю устоялся, неся в себе этот оттенок отражательного процесса, иначе — вообще, при чём здесь рефлексия. Алексеев: Устоялся. Вы меня начинаете теребить по поводу того философского вопроса, на который я не хочу отвечать. Ильясов: Нет, нет — это не философский вопрос. Вы выделяете, совершенно законно, важную реальность, вид деятельности, способность к этому виду деятельности такую, как установление отношений. И эта реальность действительно приобретает очень важное значение в последнее время. И эта способность становится уже в массовом порядке необходимой для большинства людей. Без этого люди просто не могут сейчас существовать. Все это можно совершенно чётко принять на содержательном уровне, это всё правильно, верно и интересно — и это самое главное. Но если все это обозначить терминами, то всегда возникнет недоумение, почему установление отношений — суть рефлексия? Почему такая трансформация значения этого термина? И отсюда не проглядывается та связь из внешней позиции в первом приближении и в первом знакомстве со всем тем, что вы сейчас здесь говорили, не просматривается связь с философами, которые про неё твердили, и с вашей интерпретацией этого термина. Алексеев: Вы говорите терминологические вещи, давайте посмотрим. Рассмотрим сначала аналогию — атом. Что такое атом? Терминологически. Это неделимое далее. Ильясов: Есть ещё одно значение — частица, неделимая далее. Алексеев: Частица вещества. Но нечто важное происходит далее. А происходят совсем нетривиальные вещи. Происходит парадокс, если здесь первое и второе значение мы можем подставить так, то позднее первое значение выходит на первое место, а второе совсем уходит. Вот этот процесс с терминами происходит беспрерывно. Есть вначале одни термины, затем проходит время, и мы получаем для того же самого термина другую совокупность значений. Поэтому я объясняю, что рефлексией я назвал то, что назвал тем, что я почувствовал так — современность, то есть в старый термин, вложил новое содержание. Первым критерием является произвольная остановка действия. Почему выделяется именно этот критерий? Представьте себе, что вы проводите некоторое рассуждение. Отрефлектировав это рассуждение, направив свою мысль на мысль, вы не можете этого сделать, пока вы эту мысль не остановили. Точно также вы не можете рефлектировать любое своё действие, пока оно не остановлено. Этот пример очень интересен с точки зрения патологии. Кстати, понимание рефлексии, которое я пытаюсь здесь провести, сейчас проходит в одном диссертационном исследовании на шизофрениках. Здесь важно иметь в виду, что само действие остановки лежит в другой плоскости, чем совершаемое действие. Оно по отношению к нему как бы перпендикулярно. Это происходит по схеме: схематизм (Cx1) — рефлексия (Р), схематизм (Схема № 2). Действие остановки принадлежит к плоскости, управляющей конкретными схематизмами. Остановка — не вся рефлексия, но одно из условий, которое обуславливает совершение рефлексии, и по своей природе соответствует тем различениям, которые я проводил выше. Интересно было бы типологизировать остановки действия, создать методики, позволяющие фиксировать характер остановки — это хорошая не только курсовая, но и дипломная работа. Ильясов: Значит параллельно рефлексия идти с действием не может, это для Вас принципиальное положение. Алексеев: Понимаете в чём дело, мы всегда мыслим и рассуждаем функционально. Так вот, функционально, это различные вещи, а во временной процедуре это может совпадать. Но, тем не менее, даже во временной, если мы не остановили совершаемое действие, то мы не можем делать рефлексии, по крайней мере, по отношению к этому действию. Я просто занят другим, поэтому я не могу делать эту рефлексивную работу. Это все лежит на поверхности и должно быть понятно. Напомню, что в психологии нет сложных вещей, точно также, как нет и простых — они просто таковыми нам представляются, потому что реальные, действительные вещи, просты, когда вы начали их понимать и исследовать, и нам нужно исследовать то, что лежит на поверхности, то, что всюду есть, а не какие-то экзотерические свойства. Второй момент или второй критерий — это фиксация действия. Мало остановить действие — мы можем сделать это непроизвольно. Остановка действия сама по себе ещё не ведёт к рефлексии, нам ещё что-то нужно. И следующим функциональным шагом (не по времени, а по смыслу, по значению) является фиксация действия. Что это такое? Действие, выполненное и остановленное, должно быть каким-то образом ограничено. Мы должны это действие ограничить, чтобы таким образом отделить это действие от другого. Даже в каком-то смысле выделить ранее совершенное наше действие. В этом смысл фиксации. Фиксация, по большей части, носит отрывочный характер, выполняющий роль указания. Она всегда отрывочна, приблизительна. Фиксация, точно также, как остановка действия, имеет другую управляющую природу. Она не входит в схематизм, действия по фиксации. И не может ему принадлежать, так как направлена на выделение какой-то границы, частичной, этого самого схематизма, и в этом смысле управляет этим схематизмом. Третий критерий — объективация действия. И, наконец, последняя, четвёртая характеристика, которую бы хотелось рассмотреть — это то, что я называю отчуждением действия. Дело в том, что человек, это человек, это не машина. И человек как человек пристрастен ко всему, он эмоционально заряжен на всё, прорывается это реально или не прорывается. Человек либо принимает, либо отвергает, он либо любит, либо не любит, либо интересуется, либо не интересуется. И это имеет отношение к собственному действию. Если человек сделал сам действие, то он пристрастен к нему. Но для того, чтобы действие, даже будучи объективировано, могло быть рассмотрено, оно должно быть собственным действием, отчуждённым от себя. Потому что пристрастность наша личная к каждому своему действию лишает возможности (то есть надевает какие-то очки, либо розовые, либо тёмные) разобраться в собственном действии. Самым центральным из этих четырёх критериев я бы назвал объективацию. Я ещё раз на ней остановлюсь и поясню на одном примере. Сидите вы, скажем, на семинаре у Г. П. Щедровицкого и там чертите различного рода пляшущих человечков, связи между ними, квадраты, блоки и другие разные схемы. Читаете ли вы, скажем, какую-либо кибернетическую работу психологическую, работу кибернетизированного типа, в которой тоже много различных блок-схем. В чём же функция всего этого? Во-первых, очередь для того, чтобы объективировать ход своего рассуждения — никакого специального значения, как правило, все эти схемы и рисунки, не имеют. Они имеют только один смысл — объективировать, закрепить, сделать объектом, специфически знаковым объектом, проводимым ход рассуждений, и если всё это сделано хорошо, то эти цели достигаются. Так вот, объективация является центральным процессом, в котором все остальные критерии должны присутствовать. Я совсем не касался проблемы обучения рефлексии, но именно этому надо обучать, надо обучать культуре остановки своих действий, культуре фиксации своих действий, культуре объективации своих действий. И, как это не парадоксально, культуре отчуждения своих действий, умению рассмотреть их как не свои, как некий объект, безразличный для анализа, то есть не имеющий каких-то своих преимуществ или наоборот, недостатков, зависящих от своей личностной позиции. Эта совокупность действий образует то, что я называю условиями постановки рефлексивной задачи, психологической и, как мне представляется, весьма и весьма конкретной. Теперь хотелось бы посмотреть, а как решается сама эта рефлексивная задача. Кстати, эти четыре условия, по сути дела, являются теми моментами, проведение которых и является рефлексией. Вроде бы рефлексивная задача ещё не решена, но переход к рефлексии уже схвачен, поэтому я и говорю, что это условие возможности постановки рефлексивной задачи. Теперь разберёмся, в чём же суть самой рефлексивной задачи, и какие механизмы её решения бывают. Говоря об условиях, я несколько раз подчёркивал одно обстоятельство — все эти действия лежат в одной плоскости по отношению к тому схематизму, в котором мы двигались раньше. Следовательно, я могу заключить, что рефлексивная задача связана всегда с выходом в некоторую другую плоскость рассмотрения. Даже употребляется такой термин (кажется, он был введён Щедровицким) — рефлексивный выход. Это условие, обеспечивающее возможность такого рефлексивного выхода — перехода в это иное, скажем, состояние. А рефлексивная задача — это задача, возникающая вот в этой новой плоскости. Злотников: А каковы средства объективации? Алексеев: Есть вербальные средства объективации. Злотников: Они достаточны? Алексеев: Большей частью нет. Злотников: Значит необходимы другие? Алексеев: Да. Понимаете, почему я вернулся к объективации и рассказал о личных схемах, выносимых на доску? Потому что это формально значимые средства иного рода, чем речь. Здесь все не очень просто. Почему речь в качестве средства объективации не очень эффективна? Дело в её многозначности, это раз. Во-вторых, речь у нас существует только во временном протяжении, она у нас не существует, вынесенная во вне. Злотников: Значит нужны более адекватные, знаковые системы для объективации? Алексеев: Да. Самошкин: И такая система должна иметь свою парадигматизацию и свою синтагматизацию? Ильясов: Она может быть синтагмически ситуативной? Алексеев: Здесь нельзя забывать один интересный момент, который был исходно положен в рефлексию. В связи с работами Канта был показан продуктивный и творческий характер рефлексии. Дело в том, что рефлексия угасает в своём продукте. Нечто сделанное и далее использованное, как правило, уже не требует рефлексии. Так что если мы выработаем парадигматику объективации, то мы даже не будем рефлексировать, хотя внешне будет казаться, что рефлексия осуществляется. Ильясов: то есть принципиально творческий акт не может быть нормирован? Алексеев: В этом смысле, да. Но, нормируя его, мы достигаем очень многое в культуре, в совершенстве, в организации нашего мышления, но снимаем рефлексию. Ильясов: Она становится другим образованием. Самошкин: Момент объективации в рефлексии должен иметь нормативный характер, иначе тогда сплошная интуиция творчества отнюдь не эвристического порядка. Алексеев: Здесь происходит забавная вещь. Георгий Петрович Щедровицкий во всех этих отношениях страшный пурист. Но он говорит: Какая-то непонятная трудноуловимая, неизъяснима вещь, магическая, рефлексия. Мы стремимся для себя эту вещь представить, но, как только мы её формализуем, даже какие-то вещи из неё, мы из её ведомства сразу уходим. Понимаете, почему давая своё содержательное определение рефлексии как установление отношения, мне очень важно подчеркнуть, что всегда — это процесс установления отношений. Как только отношения установлены, дальше рефлексии нет. Это процесс, который никогда по этим путям не повторяется, всё время ищущий новый ход, или это воспроизводимый в некоторых случаях репродуктивный процесс? Вот в чём дело. Злотников: Но, в таком случае, сам процесс объективации рефлексии теряет смысл, как только рефлексия объективирована, то она уже не существует. Алексеев: Объективируется не рефлексия, а мысль, рассуждение, действие. А рефлексия не объективируется. Я не говорю об объективации рефлексии, а говорю о критерии перехода. Это действие, действие остановки есть критерий остановки, действие, фиксации и их критерий фиксации, действие объективации, действие отчуждения и их критерии. Самошкин: Почему Вы называете эти критерии эмпирическими? Алексеев: Я не очень люблю наукообразные слова, но иногда без них не обойтись. Дело в том, что эти критерии я нашёл не исходя из какой-то заранее продуманной схемы, то есть я просто думал и подбирал, что нужно, но эти критерии не пронизаны единым пониманием, вот в этом смысле я и говорю, что они эмпирические. Самошкин: Эти условия предваряют рефлексивную задачу, но ведь они и остаются в ней, и тогда проблематика объективации на уровне решения рефлексивной задачи возникает с новой силой? Алексеев: Конечно остаются, и я попытаюсь показать, что там происходит. Ильясов: Может быть можно сказать так, что рефлексия не просто о мышлении в общем плане, а рефлексия — это творческое мышление о мышлении? А не репродуктивное мышление о мышлении. То есть — как только пропадает признак творчества, мы уходим из рефлексии. Алексеев: Ничего не могу возразить. Вы проще и лучше показали необходимость того первого шага, который я сделал. Злотников: Но тогда получается, что любое установление отношений есть суть творческий акт? Алексеев: Как установление, конечно. Ильясов: Как установление нового отношения, да. Не репродукция уже известных, а новых. Алексеев: Новых по содержанию, по форме, по чему угодно. Но творческое — это уж очень помпезно звучит, лучше продуктивное. Теперь я вернусь к рефлексивной задаче. Какие её характерные особенности? Какие признаки? Я сразу извинюсь, но у меня здесь есть люфты в собственном понимании, я не распределил специально характеристики по рангу, по значению и по прочему, поэтому я их просто перечислю в некотором беспорядке. Первое — это перевод в иную плоскость действия. Это понятно. Второе — это специфическая направленность рефлексивной задачи на предшествующий схематизм, на основания, которые там использовались, на средства там применённые и так далее. И третье, которое следует подчеркнуть особо — при этом задаются, как правило, новые идеализированные образования через объективацию. Все это станет более понятным, когда мы разберём один пример. Заодно на нём и обрисуем психологический механизм решения рефлексивной задачи. Ильясов: Создание новых идеализированных объектов, в которых зафиксирована не просто действительность, а особая действительность — действительность отношений, действительность мышления? то есть идеализация в мышлении отношений, потому что физик тоже создаёт идеализированные объекты, но это не касается рефлексии совершенно. Алексеев: Кстати, мы же психологи, и поэтому всегда должны понимать простую вещь — все наши расчленения — это наши расчленения, а в грешной действительности там все перепутано, там все слито воедино. Давайте представим, что делает человек. Помните, я вам говорил, что Кант высказал мысль о том, что очень важно в установлении рефлексии — он их [схемы: условия — действие] сопоставлял. То есть в нашем случае условия и система действий сопоставлялись. Но, спрашивая себя, он только условия сопоставлял? Нет, он ещё проверял и метод. То есть у него была вторая линия: он сопоставлял не только условия, но и действия. Ещё вопрос: а только ли это он делал? Нет, я должен максимально полно представить механизм и реальное движение его мысли. Что же он ещё делал? Он соотносил между собой вот эти получившиеся ряды сопоставлений. Он устанавливал отношения между варьированием условий и варьированием действий. Но только ли нормы я сопоставляю между собой? Да нет. Это был бы чисто такой псевдообъективный научный анализ, и не было бы рефлексии. А я беру те условия, которые порождают эти нормы — у меня возникают Условия–1, Условия–2 и так далее. Я опять пользуюсь этим механизмом: я провожу несколько рядов сопоставлений, соотнося их друг с другом. Мне представляется, что этот механизм достаточно универсален и является одним из возможных психологических механизмов рефлексии, то есть могут быть и какие-то другие. Правда, я пока других не знаю, а этот я вижу. Он очень соответствует философской и общепсихологической пропедевтике, которую я проводил. Это есть механизм установления отношений. Не конкретный, каждый раз описываемый по-своему, а общепсихологический механизм. Это всё, что я хотел рассказать вам. Пожалуйста, вопросы. Злотников: На ком ещё, кроме математиков, экспериментально проверялся этот механизм? Алексеев: Разработана своеобразная методика для диагностики рефлексии. Её смысл был в следующем. Человек должен был совершить действие, потом рассказать его, потом проимитировать это действие как другое, а потом рассказать смысл, тот психологический смысл, который мог бы быть, когда его заставляли делать это действие и его имитировать. Злотников: Как соотносится сознание и рефлексия, не есть ли это одно и тоже? Алексеев: Думаю, что нет. Понимаете, в чём дело, термины такого типа трудно соотносить. Например, как соотнести попугай и трамвай? Рефлексия существует в сознании, в этом смысле она является моментом сознания. Я бы обратил ваше внимание на другое. В формальностях они как-то соотносятся, но не видно, что с ними можно сделать и куда с их помощью можно выйти. Злотников: то есть соотношение рефлексии и сознания — это неверно поставленный вопрос? Алексеев: Может быть и верно, если вы сумеете этот вопрос поставить и увидеть за ним действительно большую реальность. Я пока её не вижу, но может быть она и есть. Злотников: Вот есть объект — сознание, а вот объект — рефлексия… Ильясов: Для Алексеева рефлексия совершенно определённая, в том смысле, что Алексеев знает, что делается, когда осуществляется рефлексия, и что он может с этим что-то делать. А когда он говорит про сознание, то он говорит, что не знает, что с ним делать. Правильно ли я Вас проинтерпретировал? Алексеев: В общем смысле, да. Обратите внимание на такую вещь, в английском языке все слова само, самосознание и так далее, появились в ХХ веке, а до этого их просто не было. Вдумайтесь в эти факты, которые показывают, почему я пытался показать вам организованность, историческую организованность мышления. Злотников: Тогда получается, что каждое поколение должно все исследовать заново? Алексеев: Это измеряется не поколениями. И если вы что-то хотите сделать, то у вас иного пути нет. Если вы ничего не хотите сделать, а хотите воспроизводить, повторять, то будете заниматься тем, что делает Т. Кун. Кстати, психолог должен читать науковедческие книжки. Книга Куна — это классическая книга. (Т. Кун. Структура научных революций. изд. 2. — М., «Прогресс», 1977). Ильясов: Здесь, ребята, прозвучала более глубокая идея. Это первый заход. А второй заход утверждает, что ничего подобного — каждый исторический период даёт новообразования в человеческой деятельности, в человеческом, мышлении. И каждое поколение оказывается, по крайней мере, в двух ситуациях; либо оно ещё не попало в тот момент, когда возникли новообразования, пользуется и живёт ещё в старую эпоху, пользуется тем, что было сделано предшествующими поколениями, либо оно вынуждено самостоятельно, от начала и до конца, это новообразование постигать. Вот какой заход. Перед Аристотелем не стояло социальной задачи исследовать рефлексию. Должен вам сказать, что первая позиция может отчаянно сопротивляться второй и проблематизировать её, утверждая, что это категорически не верно, что в человеческом мышлении нет такого эволюционного движения и человеческое мышление, поскольку оно мышление, оно изначально по своей природе несёт в себе всё. И развитие состоит не в появлении принципиально новых образований, а в совершенствовании того, что в зародыше дано, и поэтому Аристотель не дотягивал. Не потому, что он не мог, а потому, что не дотягивал, а другие вообще не добирались. То, что я сейчас говорю, это не значит, что это моя точка зрения. Я вам проблематизирую эту ситуацию, чтобы вы догматически не приняли ту или иную линию. Достаточно было решить что-то одно, главное, чтобы кардинально перевернуть всю действительность. Почему я привлекаю ваше внимание к литературным образам? Большие писатели делали это достаточно убедительно, но остаётся чувство, что все события, красивые и так далее, описанные в романах, реально не могли быть, то есть мы чувствуем, что это фантазия, что это фантастическое произведение. Здесь можно много примеров подобрать, чтобы показать резкое нарушение прежней изолированности действий. Мне важно, чтобы вы поняли этот момент, он достаточно прост, что прежняя автономность и изолированность действий уходит в прошлое. Для нас естественным является, что наше действие в большей степени зависит от действий других. Более того, я даже выдвину такой аргумент успешности и адекватность наших действий, который по большей части зависит от того, как мы заранее смоделируем и сформулируем наше действие по отношению к другим. Самошкин: А в советской науке? Ильясов: Тут дело посложнее, поскольку советская наука на марксистских основаниях строилась, а марксизм исходно, культивирует исторический взгляд на всё. Все рассматривается конкретно-исторически. Нет универсальных этических норм, всеобщих, универсальных ценностей и то же самое нет и мышления, но по отношению ко второму подходу — это эксплицитно выражено в марксистской логике с временной. Раньше эти общие ходы так эксплицитно не выступали по отношению именно к мышлению. Вот к другим вещам — социальным, этическим, эстетическим категориям это чётко фиксировано. Все эти категории всегда конкретно-исторические. По отношению к мышлению на уровне идеологии это фиксировалось, но на уровне конкретного детального исследования этого не осуществлялось. Алексеев: Я могу добавить. Вы не читали Первобытное мышление Л. Леви-Брюля? Знакомы вы с теорией Э. Самошкин: Который, почему-то, отрицает психологию. Алексеев: Понимаете, всё бывает. Я думаю, он не отрицает, он просто говорит, что она не построена как предмет. Ильясов: Он не отрицает психологию. Это неправильная квалификация. Он говорит, что психология, как таковая, она стара, она уже прожила, нынешняя психология — это ХVIII век. Алексеев: Посмотрите, то, что рассказано сегодня. Мы своих позиций тоже ничего не скрываем. Ведь фактически задача, которая передо мной стояла, не стояла в том, чтобы найти, что такое рефлексия. Ильясов: Ребята, вы поняли, какой здесь важный момент. Это восходит к тезису о том, что философы только объясняли мир, а надо его изменить. Алексеев: Одиннадцатый тезис о Фейербахе Марса и породил так называемых диалектических станковистов. Один из представителей которых — здесь перед вами сидит… (Диалектические станковисты — шутливое самоназвание участников Московского методологического кружка. См. Матвей Хромченко. Диалектические станковисты. — М., Издательство Школы Культурной политики. 2004, а также: ММК в лицах. Том I. — М., Фонд Институт развития им. Г. П. Щедровицкого, 2006. И ММК в лицах. Том II. — М., Фонд Институт развития им. Г. П. Щедровицкого, 2007. — Прим. ред.) Вы знаете, что такое станковизм диалектический? Хо! Да вы не читаете классиков, меня это поражает. Ильясов: Острейшая борьба проходит и по линии: что важнее — объяснять или изменять мир. Одни говорят, что слишком много времени идёт у нас на объяснение, мы много уже знаем, но толку от этих знаний мало. А другие говорят, что без изменения мир изменить нельзя. Но не нужно это разводить как альтернативу. Дело не в том, что нужно бросить объяснять мир и всем стремиться его сразу изменить. Задача объяснения остаётся, но к ней надо добавить ещё и задачу изменения мира. И при конструировании нельзя забывать и об использовании объяснений. Невозможно бросить объяснение и заняться изменением. А в Марксовском тезисе фиксируется одно очень важное обстоятельство: слишком много времени у нас идёт на объяснение, и почти нет никакого конструирования. Алексеев: Ислам Имранович, когда Вы говорили, то меня теребил червь сомнения. Я очень уважаю А. Н. Леонтьева как очень крупного психолога, но для меня тестовым лет пятнадцать-двадцать тому назад, был такой вопрос: Алексей Николаевич, а как Вы думаете, Ваша схема всегда и всюду работает? Ответ я знал, мне важно было удостовериться. И он ответил: Да, бесспорно, то есть эта схема на все века, на все народы. Следовательно, я действительно не для политеса подчёркивал своё уважение к этому психологу, но он ни в коей мере не стоял на марксистской позиции, в этом смысле. Он мог говорить очень много про историчность мышления, но это шло шапкой, вначале, а в реальной своей работе он этого не реализовывал, не проводил, а стоял на совершенно других позициях. Кстати, это явление чрезвычайно распространённое. Вот здесь Ислам Имранович критически говорил про неопозитивизм, бихевиоризм. А вы посмотрите как будущие психологи, какими методиками вы будете пользоваться — только этими, других то почти и нет. Михайлов: Своими. Алексеев: Вот это другое дело. Это другая постановка вопроса. Ильясов: Мы во-первых, изобретём свои, а во-вторых, реализуем те. Мы можем многие из них взять, так как свою задачу они решают, но нужно понимать, что они решают не всё, что нам нужно. Графская: Скажите, процесс решения творческой задачи и рефлексия, как я поняла, одно и тоже, если понимать процесс решения творческой задачи как установление новых отношений? А поскольку творчество — установление новых отношений, было всегда, на любом этапе развития общества, то рефлексию тоже, наверное, можно увидеть всегда, у того же Аристотеля. Алексеев: Я думаю, что, во-первых, процесс решения творческой задачи не обязательно предполагает рефлексию. В процессе решения творческой задачи может и участвует рефлексия, там, где это необходимо для решения творческой задачи. Более того, рефлексия всегда находится в решении творческих задач, но творческая задача — это понятие более широкое. Рефлексия, в том смысле, который я здесь пытался показать, не обязательно связана с творчеством. Ну, прошёл у человека какой-то образ, и мучился он над ним. Но не думал человек над прежним своим опытом, не сопоставлял, не сравнивал, не соотносил. Решил, в конце концов, задачу, но почему мы должны сказать, что здесь есть рефлексия? Поймите мою внутреннюю интенцию — термин всегда обессмысливается и теряет своё значение, когда он становится столь широким, что туда попадает все. Было, например, словечко информация. Сначала это было совершенно ясное понятие, по Шеннону. Потом все начали называть информацией. И само слово информация как-то обессмыслилось. То же может произойти и с рефлексией. Мы все будем называть рефлексией. Кстати, сейчас так и делают — любое сознание называют рефлексией. Ильясов: Но в вопросе Лены [Графской], содержалась та линия, она, может быть, этого и не желала. Она сомневается в том, что установление отношений — это продукт исторического развития мышления. Установление отношений есть исконно человеческое дело, и при Аристотеле оно тоже имело место. Алексеев: Да, оно имелось, и были такие прототипы и образцы, но это не было обстоятельной необходимостью всех, это не было нормой, как мы бы сказали сейчас. А мы исследуем нечто, имеющее нормативный и общий характер. Например, когда мы исследуем куст и начинаем исследовать движение соков по нему, нас не интересует данный куст, нас интересует, как двигаются соки и так далее. Ильясов: Но тогда представитель такого философствования должен всё-таки сказать: Это в какой-то мере существенная деталь для исследователя, а если такое было, то принципиально, хотя бы в виде исключения, мог это схватить и изучать. Алексеев: Нет, и принципиально нет. И вот почему. Аристотель был гениальный человек. A гениальный человек исследует то, что нужно его времени. Он не исследует нечто случайно попавшееся ему. Кстати, существует одна блестящая работа по Аристотелю. Вы задумывались когда-нибудь, как появлялась формальная логика? Очень интересный вопрос. Ведь она появилась для того, чтобы, как это ни парадоксально, чтобы совершенствовать ораторское искусство и, в первую очередь, для этого. Почему? Так как всегда тождественное высказывание убеждает. Против него нечего возразить. Море есть море. Оно всегда истинно. И в этой связи, прежде всего c практикой сократиков, с практикой судебных речей, с практикой проведения общественных собраний, с практикой убеждения других, друг друга, которая в Древней Греции играла колоссальную роль, которую мы не можем сейчас представить, в их той жизни, поскольку каждый должен был выходить и говорить. Это было нормой. Ильясов: Всё правильно, Я здесь не ставлю так вопрос, что действительная реальность и практическая ситуация жизни не играет никакой роли в озадачивании исследователя. Наоборот — решающую и ведущую роль. Алексеев: И единственную. Ильясов: Вот тут и могут быть возражения. Здесь есть вот какая сторона. Вот то, чего не было, это могло быть связано с разными обстоятельствами. Алексеев: И единственную, потому что не понятно, зачем вы что-то другое, что не отвечает потребностям времени, делаете. Посмотрите, ведь история — это сложный процесс. Скажем, если мы посмотрим на такую интересную вещь: стоит ли заняться римскими стоиками специально и почему? Да потому, что некоторые из тех условий, которые я обозначил, в то время активно рекрутировались. Смешение народов и языков, необходимость быстрого изменения действия и так далее. Поэтому нечто подобное могло возникать, но, и здесь я всё-таки утверждаю, что стоиков посмотреть специально стоит, эта ситуация не была реализована, она была как бы праситуация. Ильясов: Спасибо Вам большое. |
Рефлексия как неотъемлемая часть практического занятия — Информио
«Поставь над собой сто учителей – они окажутся бессильными,
если ты не можешь сам заставить себя и сам требовать от себя».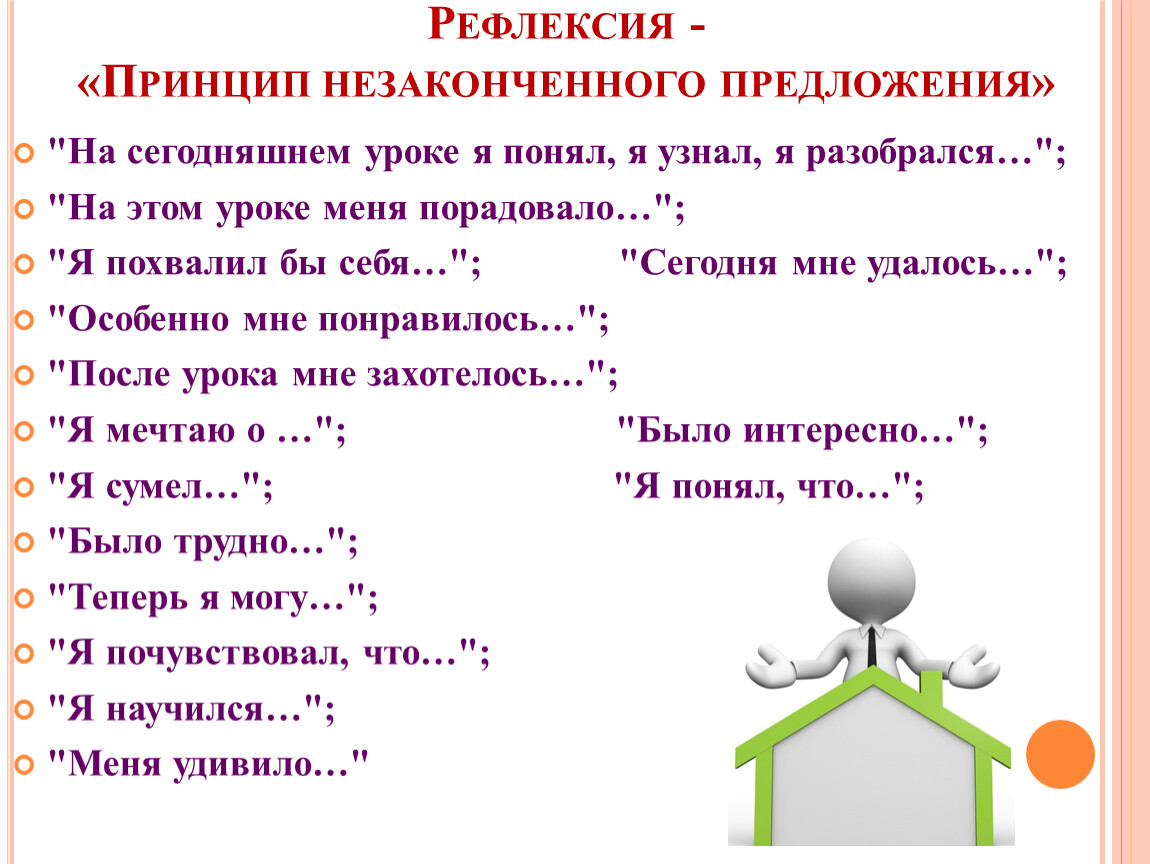
В.А.Сухомлинский
Одной из главных целей профессионального образования, в концепции модернизации Российского образования является подготовка компетентного специалиста, конкурентноспособного на рынке труда, ответственного в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Ответственность за успешную реализацию этого возлагается на всех субъектов процесса обучения. Однако преподаватель – «ведущая скрипка» данного процесса, и от того насколько правильно и профессионально будет построен учебный процесс зависит в целом успех формирования будущего специалиста- профессионала.
В современной педагогической практике существует множество ресурсов, технологий и методов для достижения выше изложенной цели.
Главными задачами преподавателя в данной ситуации является рациональный выбор подходящей технологии, правильное проектирование учебного процесса и установление позитивного психологического контакта с обучающимися, раскрытие лучших качеств личности каждого.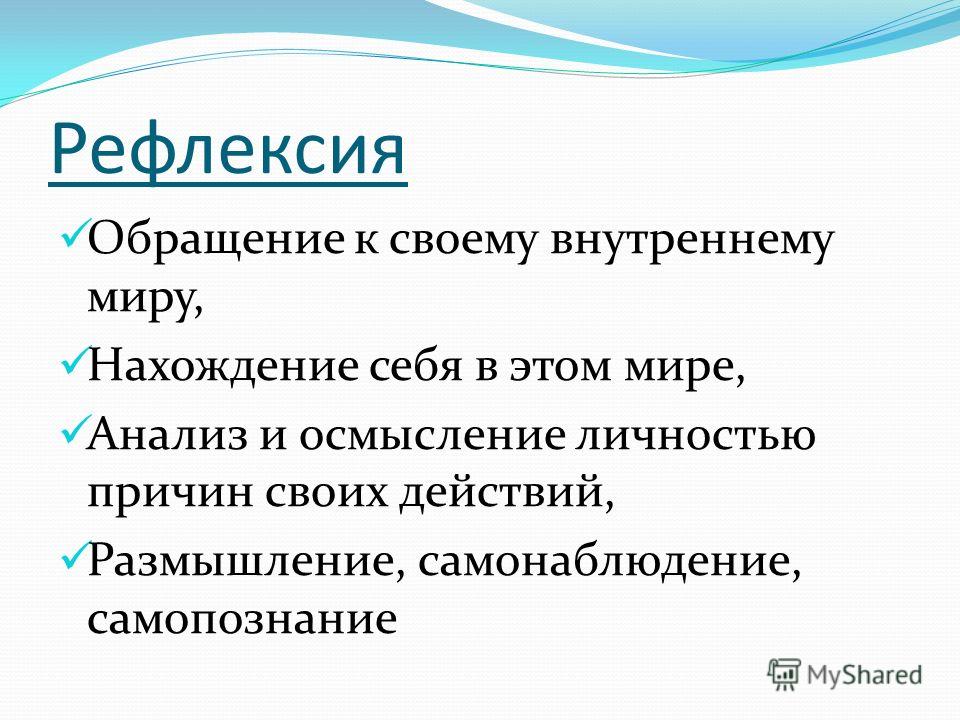 Успешной практикой в данном случае можно считать применении рефлексии как педагогического приёма и неотъемлемого этапа учебного занятия любого уровня.
Успешной практикой в данном случае можно считать применении рефлексии как педагогического приёма и неотъемлемого этапа учебного занятия любого уровня.
Современная педагогическая наука считает, что если человек не рефлексирует, он не выполняет роли субъекта образовательного процесса.
Важным моментом учебной деятельности является управление преподавателем рефлексией студентов. Рефлексия является одним из важнейших условий самореализации личности студента, самостоятельного мышления, принятия важных для себя решений.
Что же такое рефлексия? Ответы на данный вопрос дают множество литературных источников.
В словарях дается четкое определение: рефлексия — это самоанализ, самооценка, «взгляд внутрь себя». Применительно к занятиям, рефлексия — это этап занятия, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, знания, результаты своей деятельности.
Развитие навыков рефлексии у студентов – сложный процесс движения от взаимоконтроля к самоконтролю самооценке и самоанализу.
Психологами установлено, что нет студентов, равнодушных к оценке своих знаний.
Важным моментом в работе преподавателя является развитие у студентов навыков самооценки.
К самооценке стоит побуждать студентов с 1 курса, можно начинать с взаимопроверки, умения аргументированно комментировать ответы товарищей и вести студентов к оценке своей работы в соответствии с предложенным образцом и критериями оценок, которые предлагает преподаватель. Важно, чтобы оценка была мотивированной.
Рефлексия побуждает к активности, помогает найти пути совершенствования личного и профессионального роста.
Очень важно понять, что рефлексия важна и необходима не только для студента, но и для преподавателя.
Для студента она заключается в осознании своей деятельности: формулируются получаемые результаты, конкретизируются этапы изучения определённой темы, обозначаются проблемы каждого студента в данной теме, проблемы группы в этой теме, рождаются способы решения этих проблем.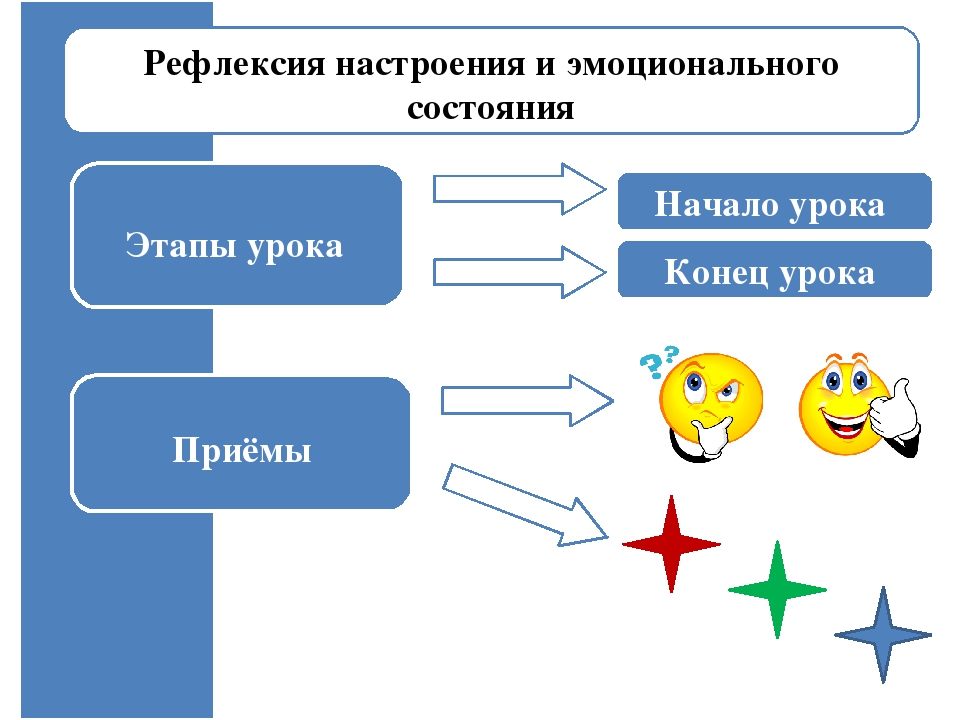
Для преподавателя же рефлексия состоит в том, чтобы помочь увидеть, за счёт чего достигается успех, вследствие чего были допущены ошибки, помочь осознать связь полученных результатов обучения с характером переживаний в ходе познания, помочь скорректировать образовательный путь студента.
Поэтому рефлексия является не только итогом, но и стартом для новой образовательной деятельности.
Когда же целесообразно проводить рефлексию на практическом занятии.
Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая классификация:
— РЕФЛЕКСИЯ НАСТРОЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ;
— РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ; — РЕФЛЕКСИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.
По времени проведения каждый вид рефлексии может осуществляться не только в конце, как это принято считать, но и на любом его этапе, всё зависит от цели занятия, уровня сложности учебного материала, способов, методов обучения, а также возрастных и психологических особенностей студентов.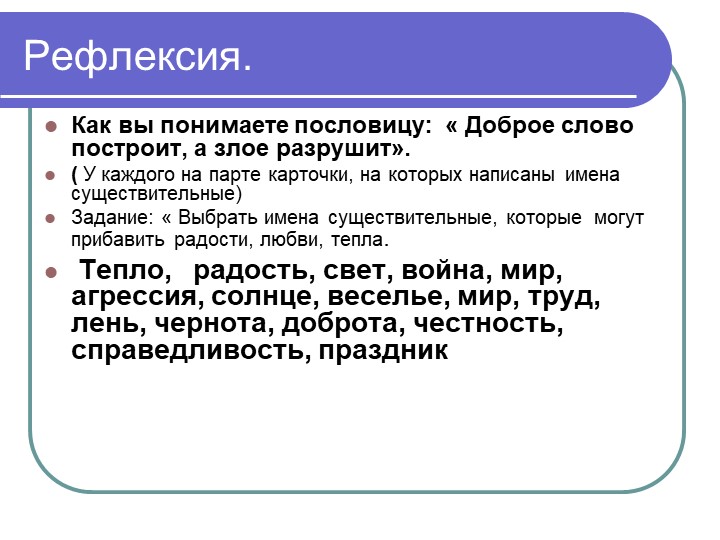
Рефлексия настроения и эмоционального состояния целесообразна и в начале занятия с целью установления эмоционального контакта с группой, и в конце деятельности для укрепления этого контакта в будущем.
Она оценивает настроение, эмоциональное восприятие учебного материала. Это рефлексия из категории «понравилось / не понравилось», «интересно / скучно»,
Данный вид рефлексии помогает оценить общее настроение студентов. Чем больше позитива, тем лучше понята тема.
Вариантов проведения масса: раздаточные карточки со смайликами или знаковыми картинками, показ большого пальца (вверх/вниз), поднятие рук, сигнальные карточки и т.д.
Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной деятельности можно использовать на этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ.
Применение этого вида рефлексии в конце занятия дает возможность оценить активность каждого на разных этапах занятия
Рефлексию содержания учебного материала можно использовать для выявления уровня осознания содержания пройденного.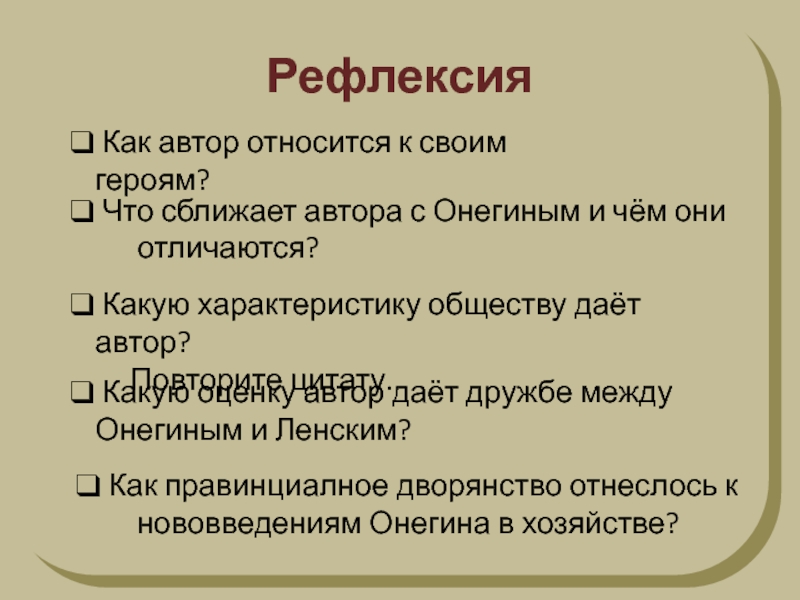
Эффективным временем проведения данного вида рефлексии на практическом занятии можно считать окончание этапа отработки практических навыков.
Среди множества рефлексивных приёмов хочется выделить приём рефлексии «Незаконченное предложение».
Позвольте привести пример из личного педагогического опыта применения такого вида рефлексии на практическом занятии по ПМ 04.,МДК 04.03.Технология оказания медицинских услуг по теме: «Постановка подкожной инъекции».
После демонстрационного момента студенты в течение 30 минут самостоятельно отрабатывают алгоритм постановки подкожной инъекции на фантомах. Сразу после этого раздаются карточки с незаконченными предложениями, где в течении 5 минут они дописывают свои ощущения, проводят самоанализ проделанной работы с конкретными комментариями по манипуляции.
Примеры предложений:
«Я похвалил бы себя…»;
«Особенно мне понравилось…»;
«После проделанного мне захотелось…»;
«Я мечтаю о …»;
«Особенно мне удалось…»;
«Я сумел…»;
«Было интересно…»;
«Было трудно…»;
«Я понял, что…»;
«Теперь я могу…»;
«Я почувствовал, что…»;
«Я научился…»;
«Меня удивило…»
« Я себя оценил на …. »
»
Анализируя ответы студентов можно составить представление об удавшихся моментах, и где стоит дополнительно уделить внимание.
Например: оценка 7 человек из 10: «Я похвалил бы себя за четкое соблюдение правил асептики при постановке подкожной инъекции», дает понять преподавателю, что вопросы инфекционной безопасности усвоены на достаточно хорошем уровне. А вот утверждения студентов: «Было трудно ввести иглу под нужным углом» или « Было трудно правильно держать ампулу при наборе лекарственного средства» даёт понимание дополнительно отработать эти моменты на занятии и в целом сформировать качественное выполнение данной медицинской услуги.
Таким образом, рефлексия — это не только этап занятия но и эффективная педагогическая технология, способствующая развитию важных качеств специалиста — медика, которые потребуются ему в будущей профессиональной деятельности:
-самостоятельность: студент осознаёт свои возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет ошибки, меру активности и ответственности в своей деятельности;
-предприимчивость: студент осознаёт, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы стало лучше;
-конкурентоспособность: умение делать что-то лучше других, действовать в любых ситуациях более эффективно.
В заключении хочется отметить что, процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна проводиться не только личностью самого себя, но и окружающими людьми. Таким образом, рефлексия на занятии – это совместная деятельность педагога и обучаемого, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого студента
Литература:
1.Ефстифеева Е.А.Филиппченкова С.И.Формирование рефлексивно-активной среды в медицинском образовании.\ сборник материалов 12 всероссийского совещания.
2.Кудрявая Н.В. Педагогика в медицине. Академия 2006 г.
3. http://fb.ru/article/238111/refleksiya-v-kontse-uroka-primeryi-po-fgos-refleksiya-kak-etap-sovremennogo-uroka-v-usloviyah-fgos
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.
Оригинал работы:
Рефлексия как неотъемлемая часть практического занятия
Рефлексия в конце урока «Дерево успеха».

Рефлексия в конце урока помогает учителю определять эффективность своей работы и степень усвоения материала классом.
Ребенку — систематизировать полученные знания и сравнивать собственные успехи с достижениями одноклассников.
Учитель в ней выполняет роль организатора, ученики выступают главными действующими лицами.
Сегодня я расскажу об одном из приёмов рефлексии в конце урока, который помогает мне наладить обратную связь с классом. Этот приём называется «Дерево успеха».
Прием может использоваться на любом этапе занятия, по итогам изученной темы либо в конце урока.
Письменные работы обсуждаются и оцениваются вместе с детьми. Это делается для того, чтобы общие ошибки и неправильное понимание и показать детям, что нужно делать, чтобы улучшить свои работы.
Мне же рефлексия позволяет наметить дальнейший план работы,
оценить сильные и слабые стороны класса и найти коммуникативный подход к
подопечным.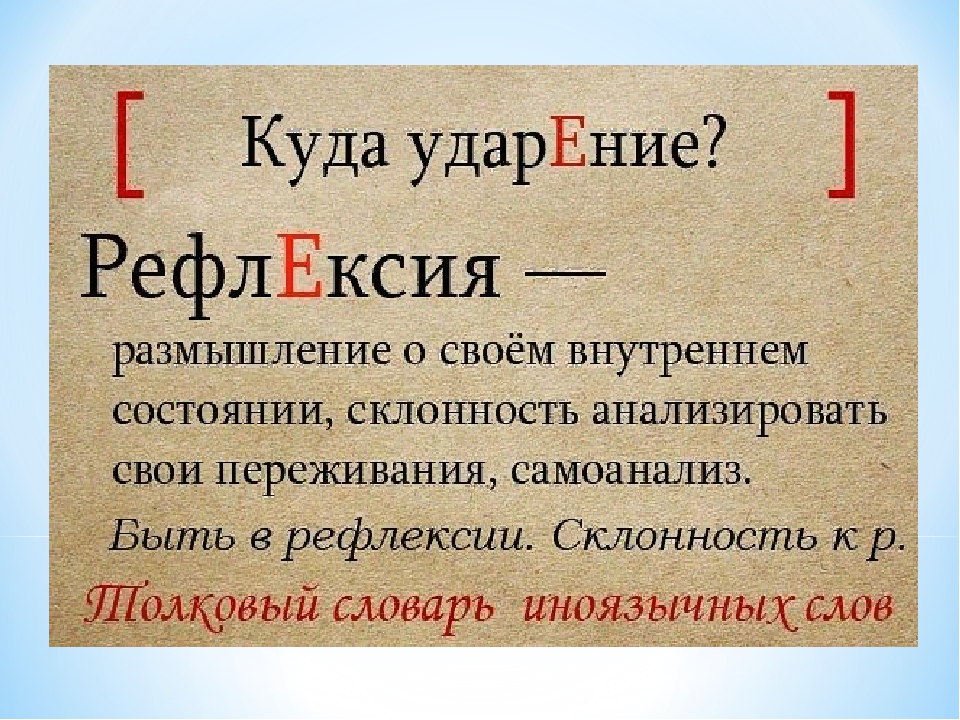
Для его применения на практике вам понадобятся картинки: собственно, дерево, прикрепленное на доске, и листья разных цветов.
На уроке русского языка, 2 класс , тема урока «Буквосочетания чк, чн, щн..», я провела проверочную работу и мы оценили свои знания при помощи дерева успеха.
Как правильно использовать рефлексию в конце урока — 3 совета
Меняйте приемы
Если вы бесконечно используете одни и те же приемы рефлексии, высока вероятность, что уроки перестанут быть интересны детям, а их оценки станут предсказуемыми.
Задача учителя в том, чтобы постоянно обновлять корзину идей и побуждать класс думать, а не идти по накатанной.
Адаптируйте задания под возраст
Понятное дело, что примеры рефлексии после урока
«Лестница успеха» или «Вагончики» пройдут на ура в начальной школе и вызовут в
лучшем случае смех на уроке алгебры в 7-9-ом классе.
Адаптируйте задания под возраст подопечных. Усложняйте, упрощайте, делайте более красочными или, наоборот, лаконичными.
Подходите к процессу максимально творчески.
Применяйте одинаковые маркеры хорошо/плохо
Например, в рамках одного урока вы сказали, что красное яблоко означает успех, а в рамках другого — непонимание материала.
Такие расхождения сбивают с толку детей, особенно в начальной школе.
Именно поэтому важно выработать для себя оценочные характеристики рефлексии, чтобы не только вам было легко работать с детьми, но и детям с вами.
Скачано с www.znanio.ru
ქეთი მასწავლებელი: Ударение в слове «РЕФЛЕКСИЯ»
В слове «рефлексия» ударение ставится на гласный звук, обозначенный буквой «е», второго слога.
Интересующее нас слово довольно редко употребляется в бытовой речи.Оно принадлежит книжному стилю, и тем не менее не все знают, как правильно ставить ударение:
«рефлЕксия» или «рефлексИя»?
На какой слог ударение в слове «рефлексия»?
Чтобы определить место ударения в рассматриваемом слове, разделим его на фонетические слоги в соответствии с количеством гласных звуков, имеющихся в нем:
ре-фле́-кси-я
Четыре гласных звука организуют столько же фонетических слогов.
Происхождение слова «рефлексия»
По происхождению латинское слово «рефлекс» буквально значит «отражение». Им в физиологии обозначают ответную реакцию живого существа на те или иные воздействия.
От слова «рефлекс» суффиксальным способом образовано производное отвлеченное существительное «рефлексия», что значит «размышление, полное сомнений, противоречий; анализ собственного психологического состояния». Этот научный термин востребован в философии, психологии, педагогике и других науках.
Оба эти однокоренных слова в литературной русской речи имеют постоянное ударение на втором слоге:
ре-фле́кс ре-фле́-кси-я
Правильное ударение
Итак, в правильной постановке ударения в рассматриваемом термине опираемся на производящее слово «рефлЕкс».
Ударение в слове «рефлексия» ставится на гласный второго слога, обозначенный букой «е», согласно орфоэпической норме современного русского литературного языка.
Греки обожествляли силы природы, которые и стали предметом первоначальной философской рефле́ксии (О.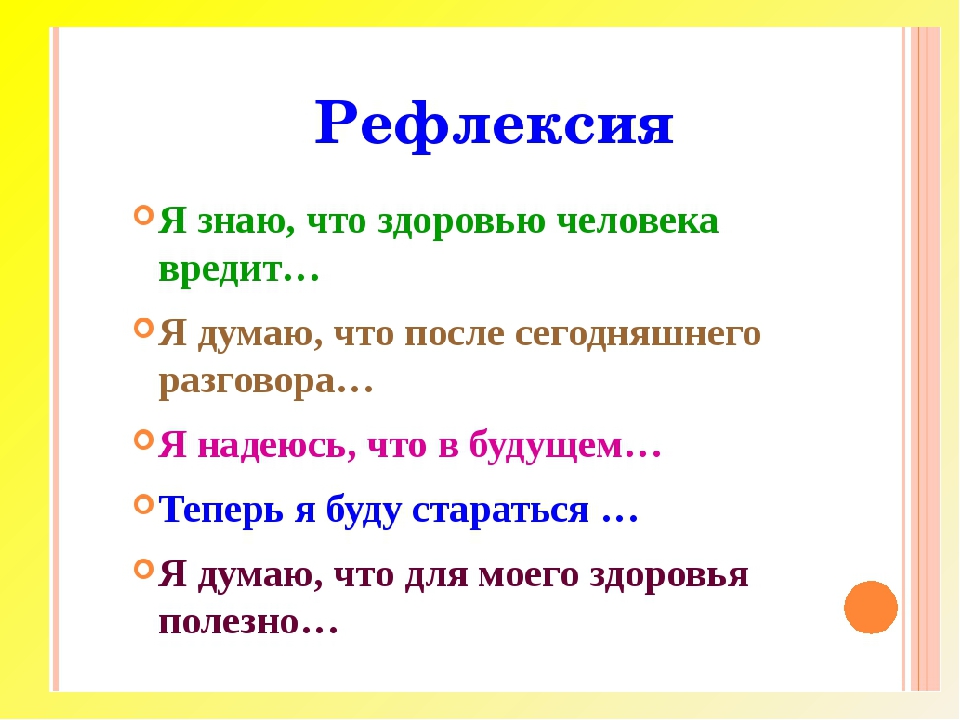 Т. Ермишин. Философия религии).
Т. Ермишин. Философия религии).
Аналогично не ставится ударение на гласный звук «и» в словах:
- бюрокра́тия
- гастроно́мия
- флюорогра́фия
- ветерина́рия
- патриа́рхия
Отличаем эту постановку ударения от произношения следующих слов, заканчивающихся на -ия:
- кулина́рия и кулинари́я
- металлурги́я
- индустри́я
- пицце́рия и пиццери́я.
Рефлексия и понимание
У нас в агентстве работает система наставничества и обучения. В прошлом году запустили ещё курс молодого бойца для новеньких. Но всё равно остаётся ощущение, что чего-то не хватает. Техническим скиллам научились, софт-скиллам научились — а пробоины остались.
Главная пробоина — люди выполняют технические задания, а не решают задачи. Не постоянно, конечно, но периодически. На практике это может выглядеть так: специалист досконально знает алгоритм пересчёта ставок в контекстной рекламе. Он изучил необходимые для этого инструкции, посмотрел обучающий семинар и показал на практике свои знания руководителю.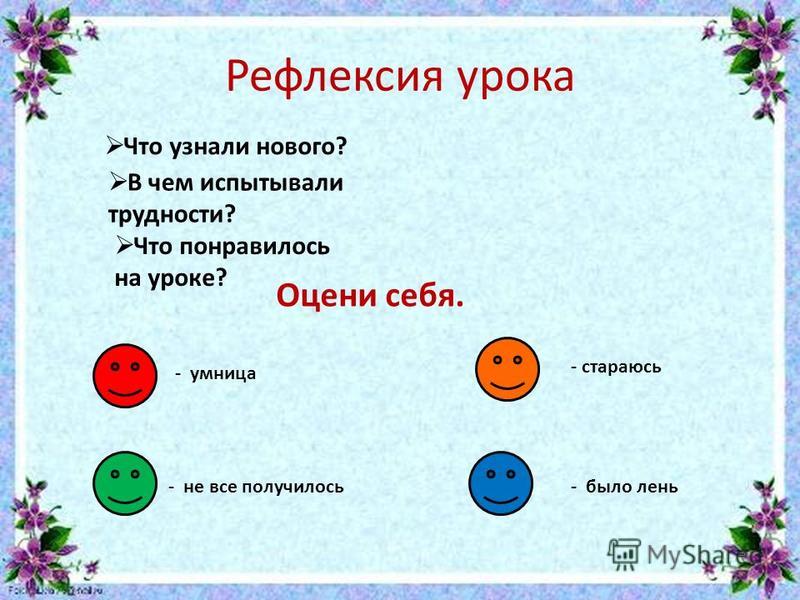 Но когда пересчёт не даёт эффекта — возникает ступор. Инструмент не работает, а на этот случай инструкции в базе знаний нет.
Но когда пересчёт не даёт эффекта — возникает ступор. Инструмент не работает, а на этот случай инструкции в базе знаний нет.
Мой друг Гриша для залатывания пробоин предложил обучать алгоритмам, то есть способам решения задач (ТРИЗ, дизайн мышление и вот это вот всё). Алгоритмы лежат в основе любых навыков и помогают действовать в тумане войны. Это классное решение, но, кажется, нужен ещё один шаг до — обучение рефлексии и пониманию. Потому что алгоритмы строятся на анализе прошлого опыта и понимании ситуации.
Сейчас у меня в голове процесс решения любой задачи выглядит так: рефлексия (накопленный опыт, поиск имеющихся вариантов решения)→ понимание задачи (зачем это делать, что нужно получить в результате, с чем придётся столкнуться по пути) → делание задачи (алгоритм решения) → рефлексия.
Понимание задачи — первый шаг алгоритма, а рефлексия — первый шаг понимания.
Максим Ильяхов продвигает понимание задачи в массы, у нас внутри есть докс про понимание.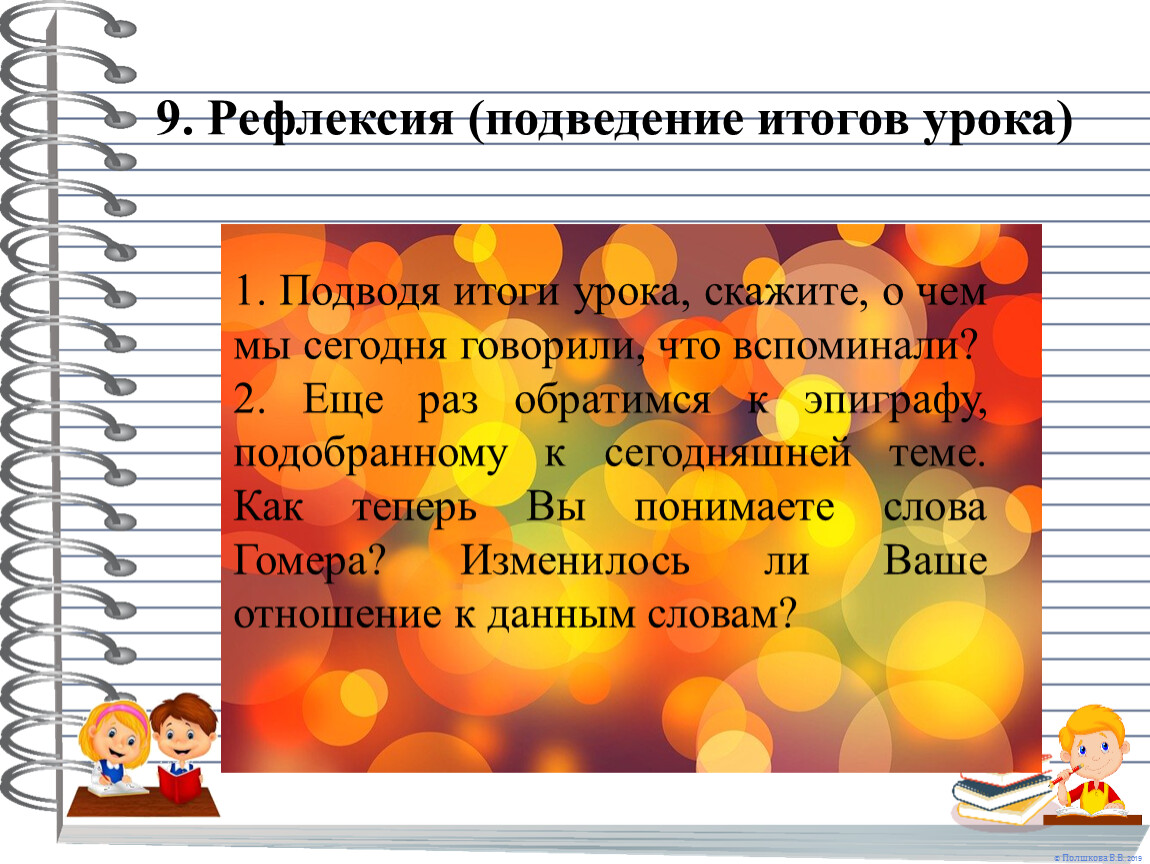 Печаль, но массово всё это не работает. В смысле, пользуются инструментом единицы. Про рефлексию вообще молчу.
Печаль, но массово всё это не работает. В смысле, пользуются инструментом единицы. Про рефлексию вообще молчу.
Почему не работает? Человек по дефолту стремится экономить усилия, а не увеличивать их. Понимание и рефлексия контринтуитивны, не работают на автомате. Для работы с ними нужно формировать привычку. Ни наше понимание задачи, ни понимание задачи Макса не учат формированию привычки, а говорят «делай так, потому что это правильно». А когда нет привычки, инструмент используют только от случая к случаю.
Как формировать привычку? Ответа у меня пока нет. Но есть подозрение, что копать надо в сторону психологии. Там есть отличный инструмент — дневник. Например, ведение дневника для изучения себя лежит в основе системы Людвига. У Севы я подсмотрел формат ежевечернего анализа по трём пунктам: Сделал, Благодарен, Накосячил. Сейчас пробую это на себе.
Вполне возможно, что умение вести дневник или как-то иначе наблюдать за собой — то, чему надо учить всех нас в первую очередь.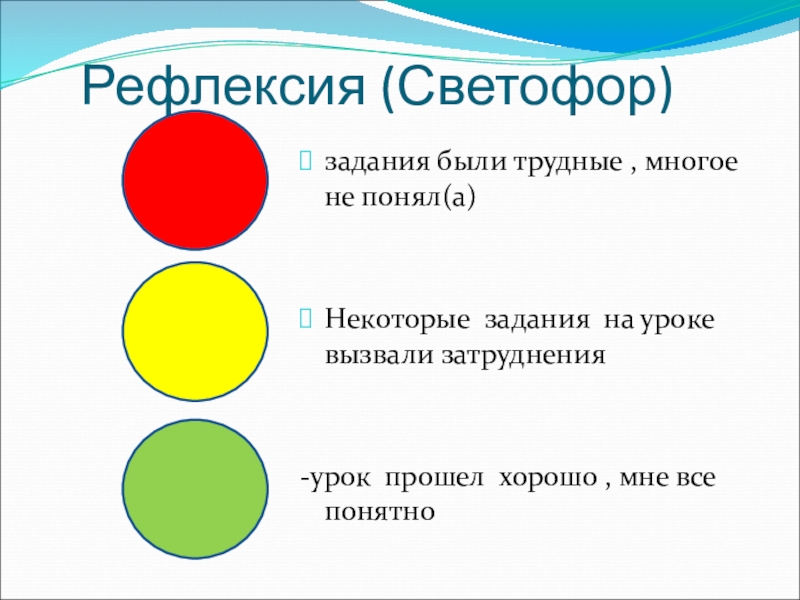 Чтобы привычка думать над тем, что произошло тащила за собой привычку думать перед тем, как что-то произошло. И еще потому что прежде, чем помогать другим, нужно разобраться с собой.
Чтобы привычка думать над тем, что произошло тащила за собой привычку думать перед тем, как что-то произошло. И еще потому что прежде, чем помогать другим, нужно разобраться с собой.
p.s. Любопытная статья, как психологи решали, на чём же основано мышление: на прошлом опыте или на понимании. Не решили, вроде.
Как правильно пишется отражение или отражение?
3: что-то, что вызывает порицание или позор. Это отражение моей честности. 4: тщательное размышление После долгих размышлений я согласился. Какое написание правильное?Принимая это во внимание, каково определение документа для размышлений?
Что такое бумага для размышлений? Бумага для размышлений — это тип бумаги, в которой вы должны написать свое мнение по теме, подкрепив его своими наблюдениями и личными примерами.
Кроме того, в чем разница между рефлексией и рефлексией в английском языке? Оксфордский словарь английского языка … Отражение правописания теперь гораздо более распространено, чем отражение во всех употреблениях, вероятно, в основном в результате ассоциации с Reflect v .
 ; сравните также сгибание п., соединение п. и т. д. Н.Э.Д. (1905) отмечает, что орфографическая рефлексия тогда «все еще была широко распространена в научных целях, возможно, из-за ее связи с рефлексией».
; сравните также сгибание п., соединение п. и т. д. Н.Э.Д. (1905) отмечает, что орфографическая рефлексия тогда «все еще была широко распространена в научных целях, возможно, из-за ее связи с рефлексией». Итак, как лучше написать отражение?
Если вы пишете размышление об определенном тексте, аннотируйте свои первоначальные эмоции и мысли при чтении.Если вы пишете о себе или о событии в своей жизни, проведите мозговой штурм, составив диаграмму с тремя колонками: прошлый опыт, описания и размышления.
Следовательно, используете ли вы местоимение первого лица в реферативной бумаге?
Реферат — это один из немногих академических текстов, в которых можно обойтись без использования местоимения первого лица «Я». Тем не менее, вы все равно должны рассказывать о своих субъективных чувствах и мнениях, используя конкретные доказательства для их объяснения. Избегайте сленга и всегда используйте правильное написание и грамматику.
20 Аналогичный вопрос Найдено
Что является правильным правильным или неправильным написанием?
Орфографическое произношение часто предписывающе не рекомендуется и воспринимается как неправильное по сравнению с традиционно принятым и обычно более распространенным произношением.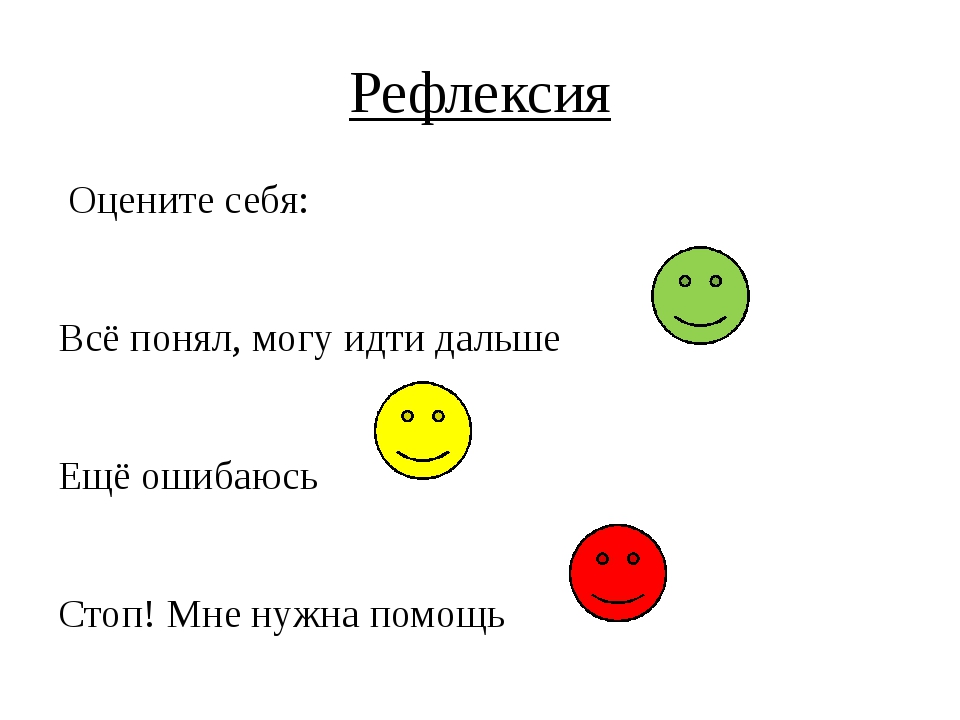
Что делает размышление событием, достойным размышления?
Размышление обычно начинается с описания того, что произошло. На этом этапе важно точно определить ключевые элементы — что делает этот инцидент достойным внимания?
Что делает командную работу отражением?
Показаны результаты поиска по запросу «Размышления о командной работе», отсортированные по релевантности.Найдено 11158 подходящих записей. Индивидуальная приверженность групповым усилиям — вот что заставляет работать команду, компанию, общество, цивилизацию.
Почему фа мулан пел отражение в отражении?
Песня была исполнена в рамках повествования фильма Фа Мулан в исполнении Леи Салонги, чтобы показать, насколько Мулан хотела почтить память своей семьи. Песня исполняется после того, как Мулан возвращается домой после неудачной попытки произвести впечатление на сваху.
Является ли отражение ежедневного отражения шедевром?
Nakatabang kini kaayo kanako sa akong ежедневные размышления nga akong gibuhat matag adlaw ko nga Misa.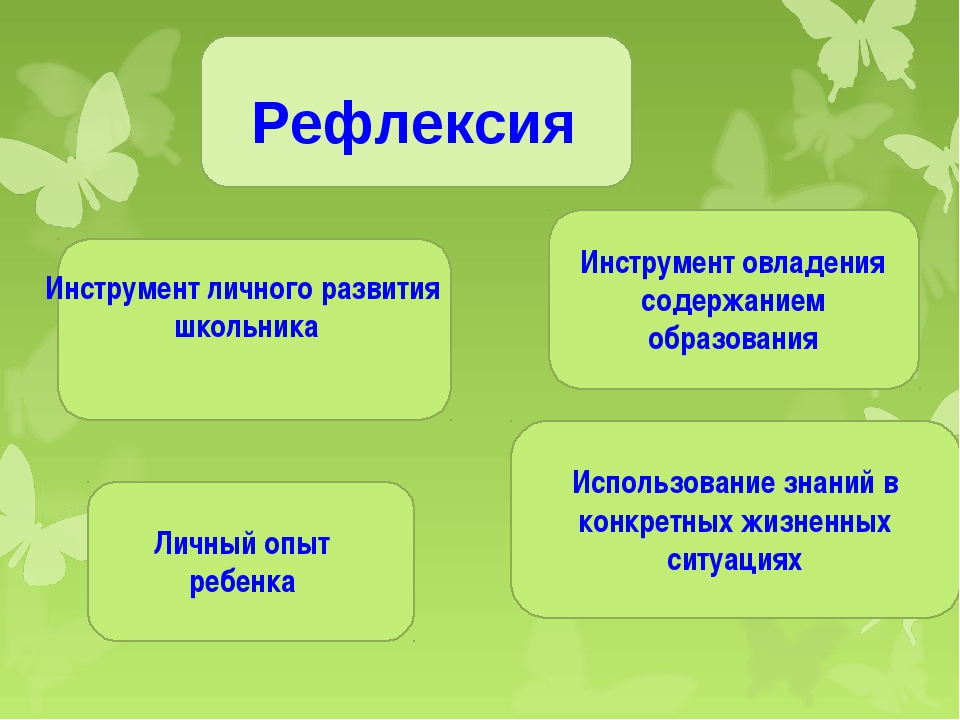 Благослови тебя Бог, Отец. Я только что прочитал отражение завтрашнего воскресенья. Это действительно шедевр. Храните добрую работу Бога. Это действительно большая помощь проповедникам.
Благослови тебя Бог, Отец. Я только что прочитал отражение завтрашнего воскресенья. Это действительно шедевр. Храните добрую работу Бога. Это действительно большая помощь проповедникам.
Чем диффузное отражение отличается от зеркального?
Диффузное отражение – это отражение света или других волн или частиц от поверхности, при котором луч, падающий на поверхность, рассеивается под многими углами, а не только под одним углом, как в случае зеркального отражения.
Что такое отражение и как использовать отражение в.сеть?
В этом уроке мы узнаем, что такое отражение и как использовать отражение в .NET. В информатике отражение — это способность компьютерной программы исследовать и изменять структуру и поведение программы во время выполнения.
Когда написание sacagawea стало правильным?
Написание Sacagawea было установлено в 1910 году как правильное использование в правительственных документах Бюро американской этнологии Соединенных Штатов и является правописанием, принятым Монетным двором Соединенных Штатов для использования с долларовой монетой, а также Советом Соединенных Штатов по Географические названия и У.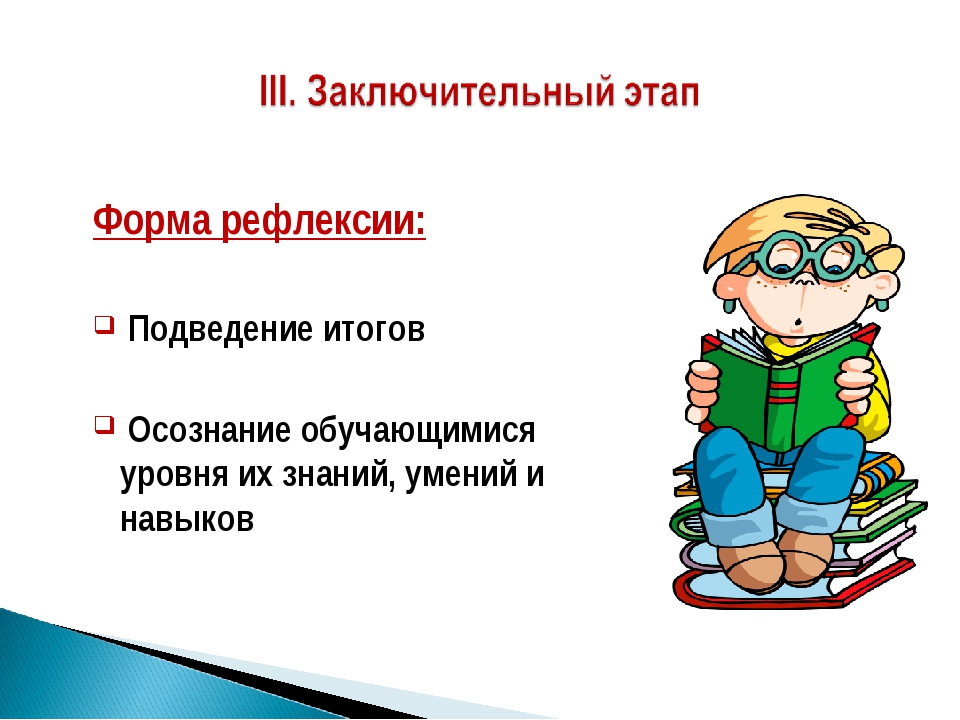 С. Служба национальных парков.
С. Служба национальных парков.
Когда написание корреспондент стало правильным?
Правописание корреспондент устарело в 1996 году в новой реформе правописания Groene Boekje («Маленькая зеленая книга»). От средневековых латинских корреспондентов, родственных английскому корреспонденту, немецкому корреспонденту. Используется в шведском языке с 1797 года.
Можете ли вы использовать scribbr для исправления орфографии и правописания?
Редакторы Scribbr не только исправляют грамматические и орфографические ошибки, но и улучшают качество письма, следя за тем, чтобы в статье не было нечетких выражений, избыточных слов и неудобных формулировок.Если вы используете стиль APA, существуют дополнительные особые требования к использованию сокращений в вашей диссертации.
Как проверить орфографию и исправить орфографию в индизайне?
Вы можете добавлять слова в словарь, чтобы они не отображались в списке как неправильно написанные, например, имена собственные или специфические для бизнеса термины, которые следует игнорировать при проверке правописания.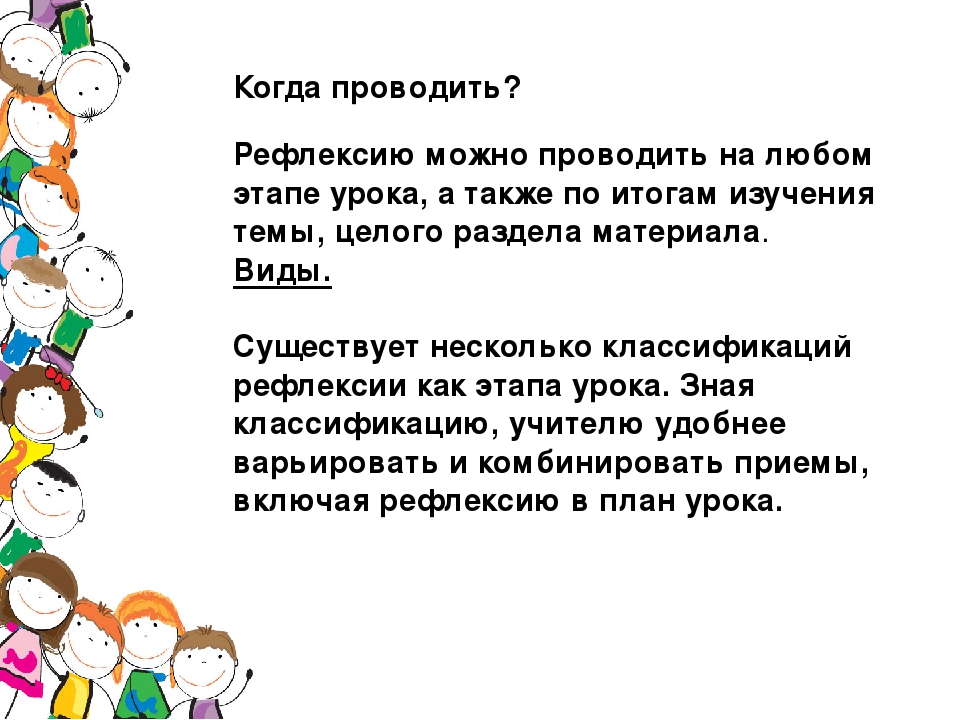 1 С помощью инструмента «Текст» ( ) поместите курсор в самое начало первого абзаца в верхней части страницы 2. 2 Выберите «Правка» > «Правописание» > «Проверить правописание».
1 С помощью инструмента «Текст» ( ) поместите курсор в самое начало первого абзаца в верхней части страницы 2. 2 Выберите «Правка» > «Правописание» > «Проверить правописание».
Какое правильное написание: американское или британское?
Технически правильно и американское, и британское написание. Тем не менее, американское правописание получает преимущество во многих обстоятельствах, потому что Microsoft Word настроен по умолчанию для своей функции проверки орфографии на американское правописание. Таким образом, при использовании этой программы все британские варианты написания будут отображаться как неправильные.
Как правильно написать или правильно написать?
отправлено Правильное написание, объяснение: правильная форма отправлена, потому что здесь мы используем правило согласный-гласный-согласный.Там сказано, что в такой ситуации мы удваиваем последнюю согласную, если добавляем суффикс. Поэтому t в submit удваивается и результат отправляется.
Какое написание правильное или близкое к правильному?
Правильность близка к правильности, но имеет более сильный позитивный акцент на соответствии фактам или истине, а не на простом отсутствии ошибок или ошибок.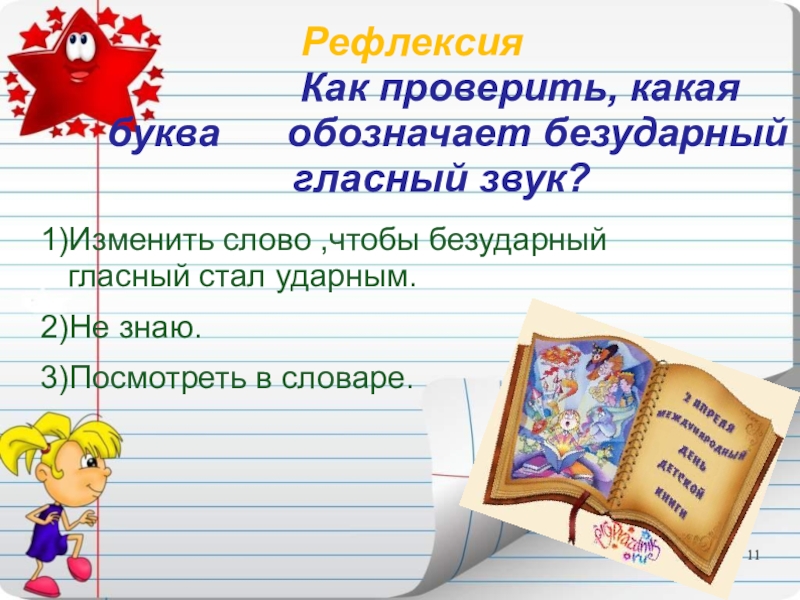 Получайте ежедневное электронное письмо «Слово дня»! Какое написание правильное?
Получайте ежедневное электронное письмо «Слово дня»! Какое написание правильное?
Как правильно, как пишется правильно?
1.Который правильный? 2. Какой из них правильный? 3. Какой из них правильный? 4. Какой из них правильный? 5. Какое написание правильное? 6. Какое написание правильное?
Какое написание правильное, обвиняемый или правильное?
обвиняемый. Правильное написание. обвиняемый. Неправильное написание.
Какое правильное определение закона отражения?
[ rĭ-flĕk′shən ] Изменение направления волны, такой как световая или звуковая волна, от границы, с которой сталкивается волна.Отраженные волны остаются в своей первоначальной среде, а не входят в среду, с которой они сталкиваются. ♦ Согласно закону отражения, угол отражения отраженной волны равен углу ее падения.
Какое правильное значение коэффициента отражения?
Коэффициент отражения – это отношение отраженной волны к падающей в точке отражения. Это значение варьируется от -1 (для короткой нагрузки) до +1 (для разомкнутой нагрузки) и становится равным 0 для нагрузки с согласованным импедансом.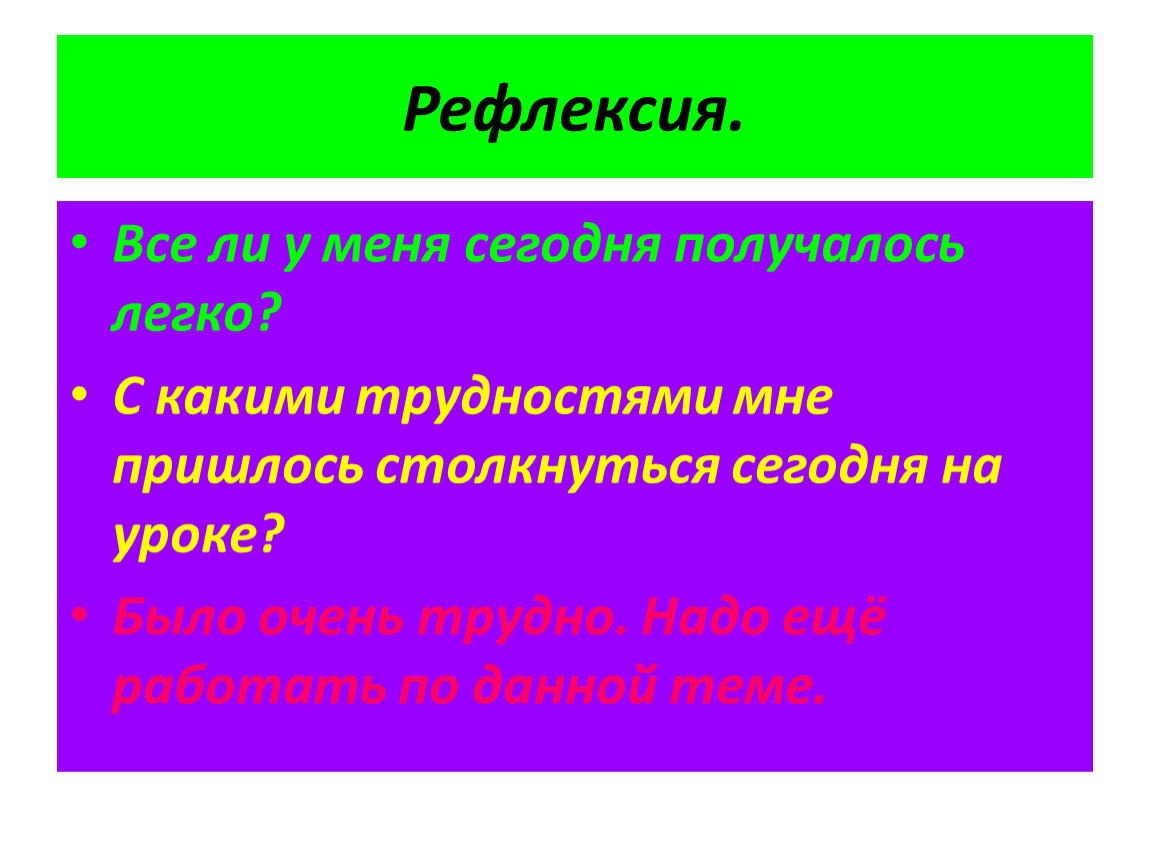 Формула:
Формула:
Какая формула является правильной для точечного отражения?
Для точечного отражения мы фактически отражаем определенную точку, обычно эта точка является исходной точкой. Пример 2 показывает то же самое отражение над началом координат. Расстояние от прообраза до точки отражения равно расстоянию от точки отражения до изображения.
Какое определение симметрии отражения является правильным?
Симметрия отражения, линейная симметрия, зеркальная симметрия, симметрия зеркального изображения — это симметрия по отношению к отражению.То есть фигура, которая не меняется при отражении, обладает отражательной симметрией.
Отражение для действия и выбор или разработка примеров в обучении математике
Эймс, К. (1992). Классы: цели, структуры и мотивация учащихся. Журнал педагогической психологии, 84 (3), 261–271.
Артикул Google Scholar
Аткинсон Р., Дерри С. , Ренкл А.и Уортам, Д. (2000). Обучение на примерах: учебные принципы из исследования проработанных примеров. Review of Educational Research, 70 (2), 181–214.
, Ренкл А.и Уортам, Д. (2000). Обучение на примерах: учебные принципы из исследования проработанных примеров. Review of Educational Research, 70 (2), 181–214.
Артикул Google Scholar
Белл А., Грир Б., Гримисион Л. и Манган К. (1989). Производительность детей в мультипликативных задачах: элементы описательной теории. Журнал исследований в области математического образования, 20 (5), 434–449.
Артикул Google Scholar
Биллс, Л., и Роуленд, Т. (1999). Примеры, обобщение и доказательство. В L. Brown (Ed.), Придание смысла математике, достижения в математическом образовании 1 (стр. 103–116). Йорк: QED.
Google Scholar
Биллс Л., Дрейфус Т., Мейсон Дж., Цамир П., Уотсон А. и Заславски О. (2006). Пример в математическом образовании.В J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká, & N. Stehlikova (Eds.), Proc. 30-я конф. Междунар. Группа психологии математического образования (Том 1, стр. 126–154). Прага: PME.
Stehlikova (Eds.), Proc. 30-я конф. Междунар. Группа психологии математического образования (Том 1, стр. 126–154). Прага: PME.
Google Scholar
Колдерхед, Дж. (1989). Рефлексивное обучение и педагогическое образование. Преподавание и педагогическое образование, 5 (1), 43–51.
Артикул Google Scholar
Чеонг Ю.К. (2002). Модельный метод в Сингапуре. Преподаватель математики, 6 (2), 47–64.
Google Scholar
Кристиансен Б. и Вальтер Г. (1986). Задача и деятельность. В книге Б. Кристиансена, А. Г. Хоусона и М. Отте (редакторы), Перспективы математического образования (стр. 243–307). Голландия: Рейдель.
Глава Google Scholar
Кларк, Д., Кейтель, К., и Симидзу, Ю. (ред.). (2006). Классы математики в 12 странах: взгляд изнутри (серия LPS, том 1) . Роттердам: Издательство SENSE.
Роттердам: Издательство SENSE.
Google Scholar
Дьюи, Дж. (1933). Как мы думаем: переформулирование отношения рефлексивного мышления к образовательному процессу . Бостон: Хит и компания.
Google Scholar
Дойл, В.(1983). Академическая работа. Review of Educational Research, 53 , 159–199.
Артикул Google Scholar
Дойл, В. (1988). Работа на уроках математики: контекст мышления учащихся во время обучения. Педагог-психолог, 23 , 167–180.
Артикул Google Scholar
Экиз, Д. (2006). Самонаблюдение и взаимное наблюдение: рефлексивные дневники учителей начальных классов. Начальное образование онлайн, 5 (1), 45–57.
Google Scholar
Фаррелл, Т.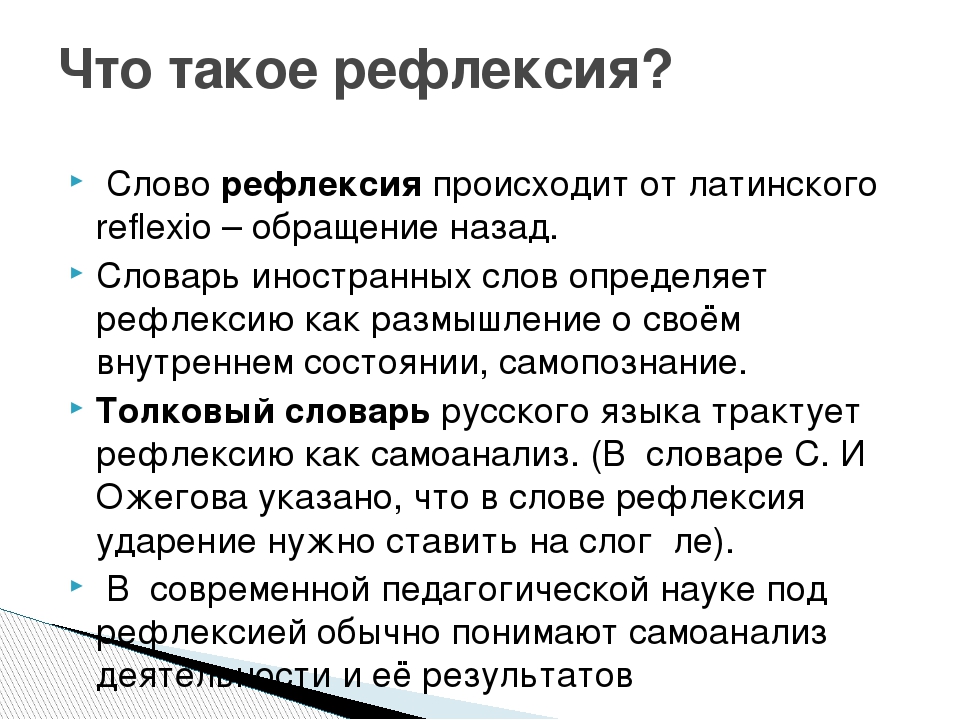 С. (2013). Размышляя об опыте учителей ESL: тематическое исследование. Система , 41 (4), 1070–1082.
С. (2013). Размышляя об опыте учителей ESL: тематическое исследование. Система , 41 (4), 1070–1082.
Артикул Google Scholar
Ферраро, Дж. М. (2000). Рефлексивная практика и профессиональный рост. ЭРИК Дайджест.
Фишбейн Э., Дери М., Нелло, М.С., и Марино, М.С. (1985). Роль неявных моделей в решении задач на умножение и деление. Журнал исследований в области математического образования, 16 (1), 3–17.
Артикул Google Scholar
Фонг, Х.К. (1999). Некоторые общие принципы решения математических задач в классе. Преподавание и обучение, 19 (2), 80–83.
Google Scholar
Грушка К., Хинде-Маклауд, Дж., и Рейнольдс, Р. (2005). Размышляя над размышлениями: теория и практика в одной из программ подготовки учителей австралийских университетов. Reflective Practice, 6 (1), 239–246.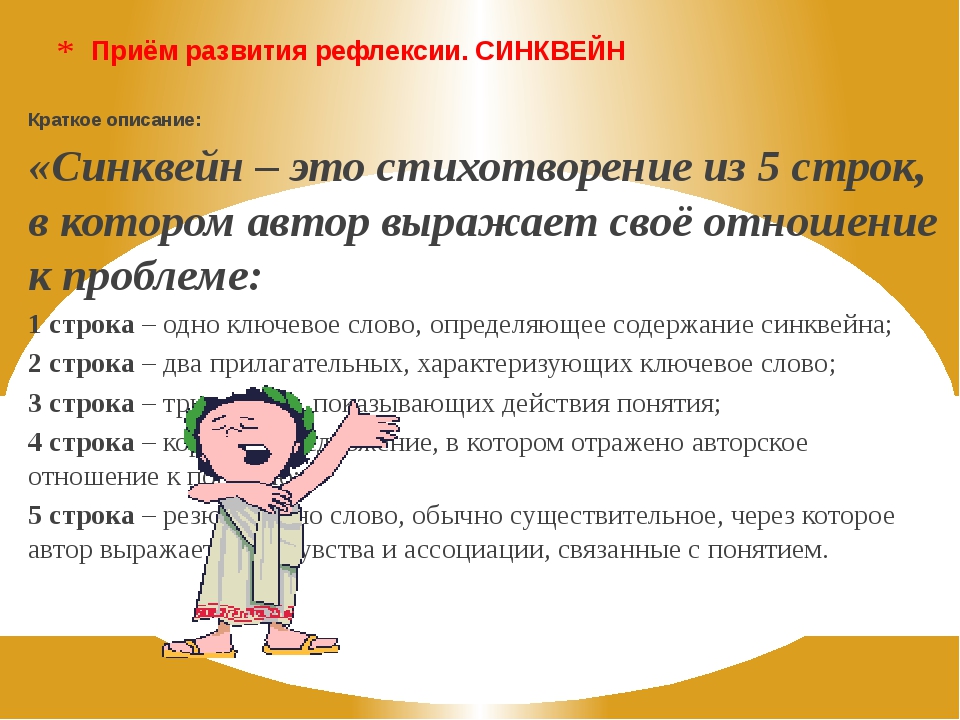
Артикул Google Scholar
Геде Г. и Труш Л. (2012). Сообщества, документы и профессиональные генезисы: взаимосвязанные истории. В G. Gueudet, B. Pepin, & L. Trouche (Eds.), От текста к «живым» ресурсам: учебные материалы и развитие учителей математики (стр.23–41). Берлин: Спрингер.
Глава Google Scholar
Хиберт, Дж., и Верн, Д. (1993). Учебные задания, дискурс в классе и обучение учащихся арифметике второго класса. Американский журнал исследований в области образования, 30 , 393–425.
Артикул Google Scholar
Джей, Дж. К., и Джонсон, К. Л. (2002). Захват сложности: типология рефлексивной практики для педагогического образования. Учитель и педагогическое образование, 18 , 73–85.
Артикул Google Scholar
Джонс, К. , и Пепин, Б. (2016). Исследование учителей математики как партнеров в разработке задач. Журнал образования учителей математики, 19 (2), 105–121.
, и Пепин, Б. (2016). Исследование учителей математики как партнеров в разработке задач. Журнал образования учителей математики, 19 (2), 105–121.
Артикул Google Scholar
Юнг, Х., и Брэди, К. (2016). Роли преподавателя и исследователя в процессе профессионального развития на месте при выполнении задач математического моделирования. Журнал образования учителей математики, 19 (2), 277–295.
Артикул Google Scholar
Камин Д. (2010). Использование задач и примеров на уроке математики в средней школе: разница в назначении и развертывании . Канада: Университет Саймона Фрейзера.
Google Scholar
Кейтель, К. (2006). «Постановка задачи» в немецких школах: разные рамки для разных амбиций.В книге Д. Дж. Кларка, К. Кейтеля и Ю. Симидзу (ред.), классов математики в двенадцати странах: взгляд изнутри (стр. 37–57). Роттердам: Издательство Sense.
37–57). Роттердам: Издательство Sense.
Google Scholar
Килпатрик Дж., Сваффорд Дж. и Финделл Б. (ред.). (2001). Складываем: помогаем детям изучать математику . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Национальной академии.
Google Scholar
Керстинг Н.Б., Гиввин, К.Б., Сотело, Ф.Л., и Стиглер, Дж.В. (2010). Анализ учителями классного видео прогнозирует усвоение учащимися математики: дальнейшее исследование новой меры знаний учителей. Журнал педагогического образования, 61 , 172–181.
Артикул Google Scholar
Киллион, Дж., и Тоднем, Г. (1991). Процесс построения личной теории. Руководство в сфере образования, 48 (6), 14–17.
Google Scholar
Хо, Т.Х. (1982). Использование моделей в обучении математике младших школьников. В RS Bhathal, G. Kamaria, & HC Wong (Eds.), Преподавание математики . Сингапур: Сингапурская ассоциация развития науки и Сингапурский научный центр.
В RS Bhathal, G. Kamaria, & HC Wong (Eds.), Преподавание математики . Сингапур: Сингапурская ассоциация развития науки и Сингапурский научный центр.
Google Scholar
Кукан, Л. (2007). Мнения учителей, которые проанализировали стенограммы своих собственных обсуждений в классе. Учитель чтения, 61 (3), 228–236.
Артикул Google Scholar
Лейнхардт, Г. (2001). Учебные объяснения: обычное место для обучения и место для контраста. В В. Ричардсон (ред.), Справочник по исследованиям в области преподавания (4-е изд., стр. 333–357). Вашингтон, округ Колумбия: Американская ассоциация исследований в области образования.
Google Scholar
Лейнхардт Г., Заславский О. и Штейн М.К. (1990). Графики и графики: задачи, обучение и преподавание. Американская ассоциация исследований в области образования, 60 (1), 1–64.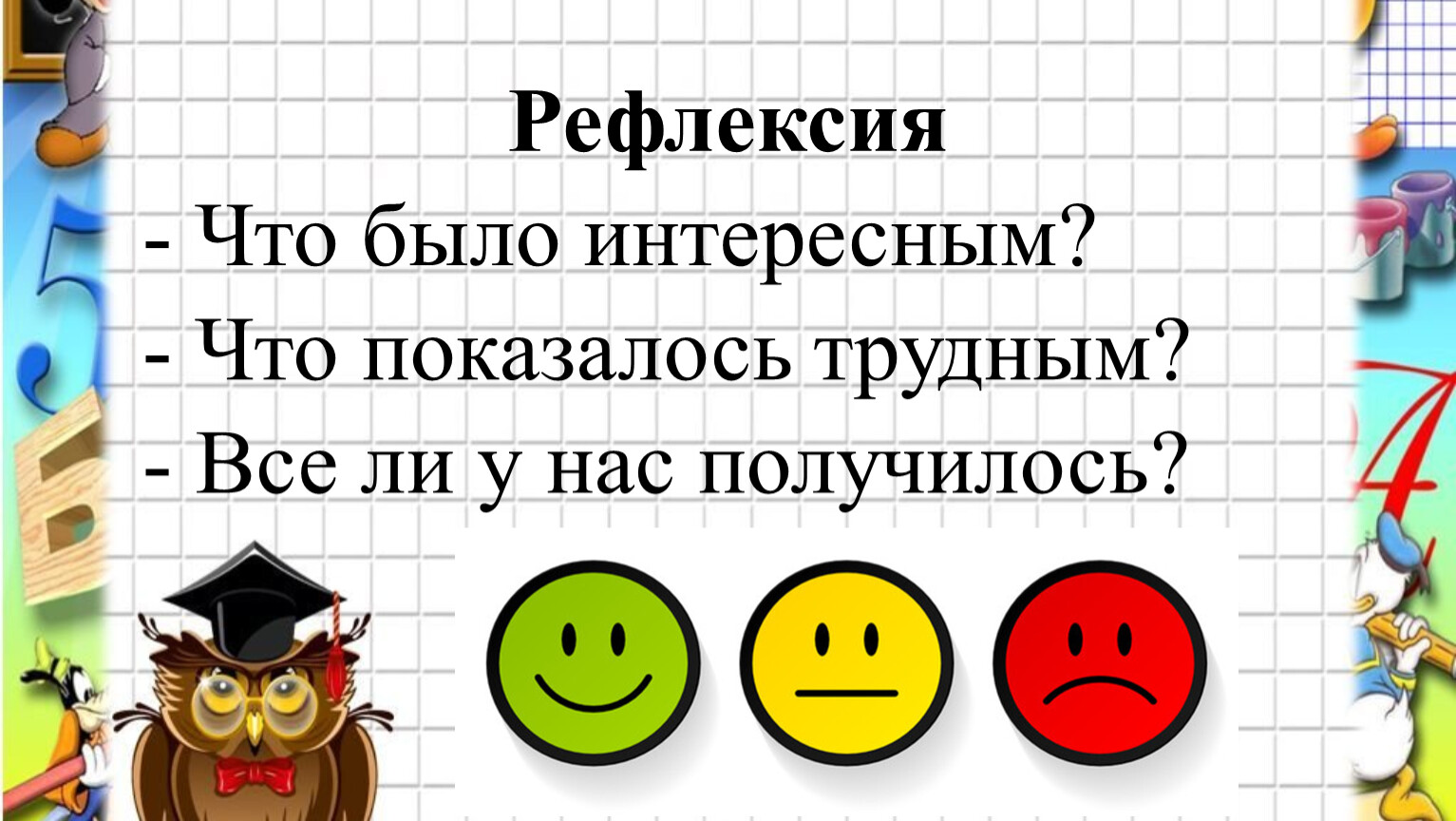
Google Scholar
Ло, М.Л. (2012). Теория вариаций и совершенствование преподавания и обучения . Гетеборг: Гетеборгский университет.
Google Scholar
Мартин, Т. С. (2007). Преподавание математики сегодня: улучшение практики, улучшение обучения учащихся (2-е изд.). Рестон, Вирджиния: Национальный совет учителей математики.
Google Scholar
Мартон, Ф. (2015). Необходимые условия обучения . Лондон: Рутледж.
Google Scholar
Мартон Ф. и Бут С. (1997). Обучение и осведомленность . Махва, Нью-Джерси: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Мартон Ф.и Панг, М.Ф. (2008). Идея феноменографии и педагогика концептуальных изменений. В S. Vosniadou (Ed.), International Handbook on Research of Conceptual Change (стр.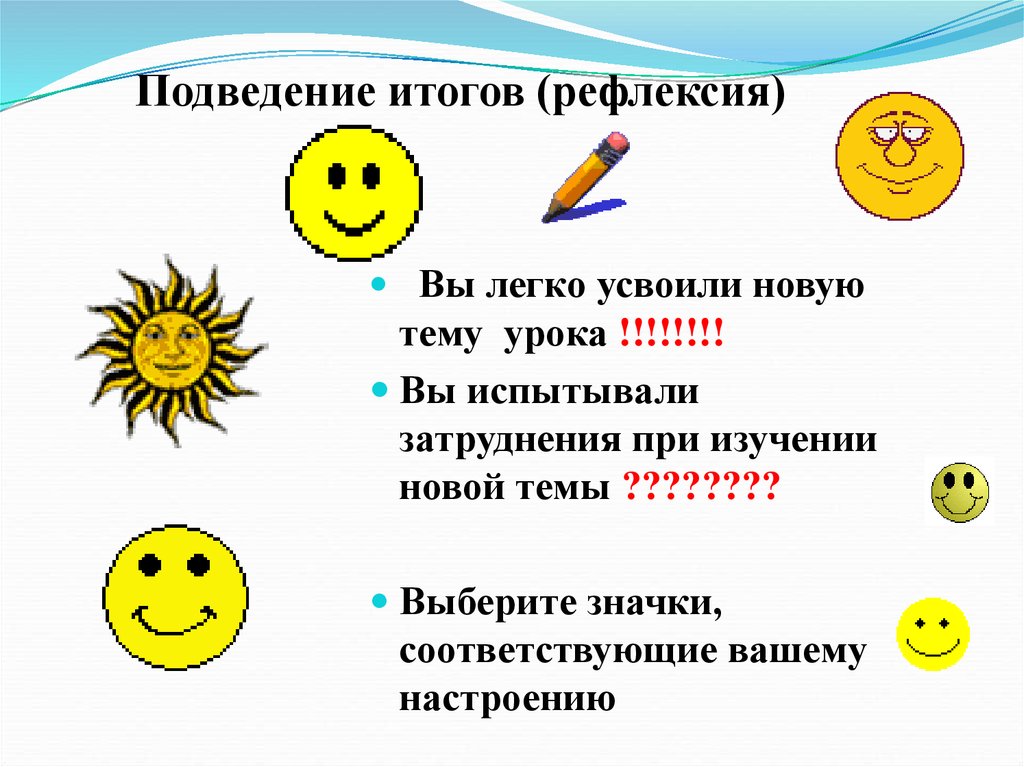 533–559). Нью-Йорк, Лондон: Рутледж.
533–559). Нью-Йорк, Лондон: Рутледж.
Google Scholar
Мартон Ф. и Цуй А.Б.М. (2004). Дискурс в классе и пространство обучения . Нью-Джерси: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Google Scholar
Мейсон, Дж.и Пимм, Д. (1984). Общие примеры: видеть общее в частном. Образовательные исследования по математике, 15 (3), 277–290.
Артикул Google Scholar
Мок, И.А.К., и Каур, Б. (2006). Мероприятия урока «Учебное задание». В DJ Clarke, J. Emanuelsson, E. Jablonka и IAC Mok (Eds.), Установление связей: сравнение классов математики по всему миру (стр. 147–163). Роттердам: Издательство Sense.
Google Scholar
Олтяну, К. (2016). Рефлексия и объект обучения. Международный журнал исследований уроков и обучения, 5 (1), 60–75.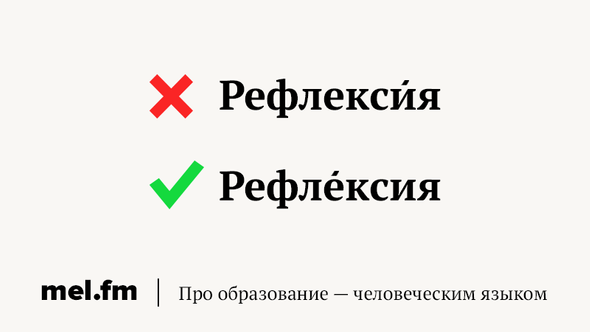
Артикул Google Scholar
Олтяну, Л. (2014). Эффективное общение, критические аспекты и композиционность в алгебре. Международный журнал математического образования в области науки и технологий, 45 (7), 1021–1033.
Артикул Google Scholar
Олтяну, К., и Олтяну, Л. (2012). Улучшение эффективной коммуникации — случай вычитания. Международный журнал науки и математического образования, 10 (4), 803–826.
Артикул Google Scholar
Пареха Роблин, Н., и Маргалеф, Л. (2013). Учиться на дилеммах: профессиональное развитие учителей через совместные действия и размышления. Учителя и преподавание: теория и практика, 19 (1), 18–32.
Артикул Google Scholar
Пелед И. и Заславский О. (1997). Контрпримеры, которые (только) доказывают, и контрпримеры, которые (также) объясняют.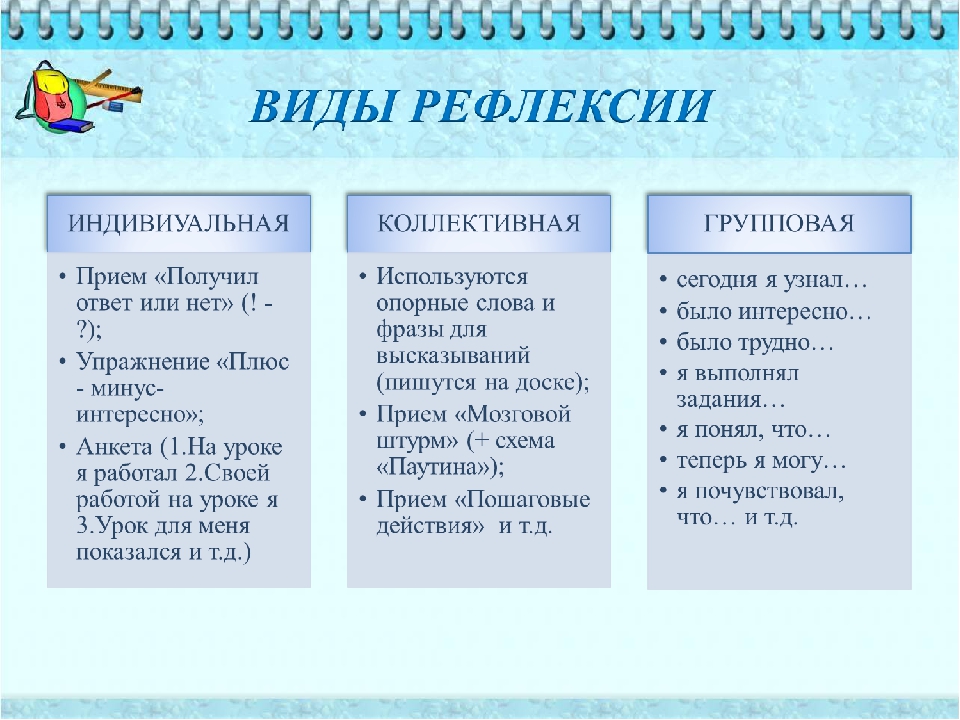 Сосредоточьтесь на проблемах обучения математике, 19 (3), 49–61.
Сосредоточьтесь на проблемах обучения математике, 19 (3), 49–61.
Google Scholar
Пепен Б., Геде Г. и Труш Л.(2013). Ресурсная работа и взаимодействие учителей: новые взгляды на дизайн ресурсов, использование и сотрудничество учителей. ZDM: Международный журнал математического образования, 45 (7), 929–943.
Артикул Google Scholar
Пломп, Т. (2013). Педагогические дизайнерские исследования: введение. В Т. Пломп и Н. Нивин (редакторы), Исследования в области образовательного дизайна — часть а: введение (стр. 10–51). Энсхеде: СРБ.
Google Scholar
Remillard, JT (2005). Изучение ключевых понятий в исследованиях использования учителями учебных программ по математике. Review of Educational Research, 75 (2), 211–246.
Артикул Google Scholar
Ривз, TC (2011).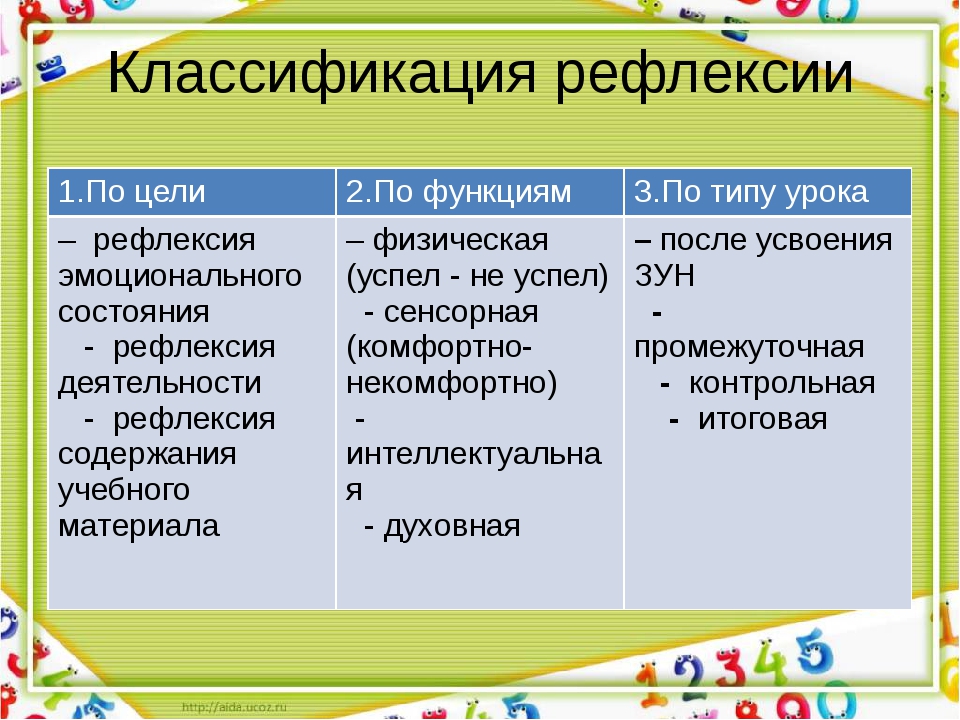 Могут ли образовательные исследования быть одновременно строгими и актуальными? Образовательный дизайнер: Журнал Международного общества дизайна и развития в образовании, 1 (4), 1–24.
Могут ли образовательные исследования быть одновременно строгими и актуальными? Образовательный дизайнер: Журнал Международного общества дизайна и развития в образовании, 1 (4), 1–24.
Google Scholar
Рунессон, У. (2006). Чему можно научиться? О вариации как необходимом условии обучения. Скандинавский журнал исследований в области образования, 50 (4), 397–410.
Артикул Google Scholar
Руйс, И., Ван Кир, Х., и Альтерман, А. (2012). Изучение предварительной компетентности учителя в планировании урока, относящегося к совместному обучению. Journal of Curriculum Studies, 44 (3), 349–379.
Артикул Google Scholar
Сантагата, Р., и Ангеличи, Г. (2010). Изучение влияния структуры анализа урока на способность учителей предварительного обучения размышлять над видео преподавания в классе.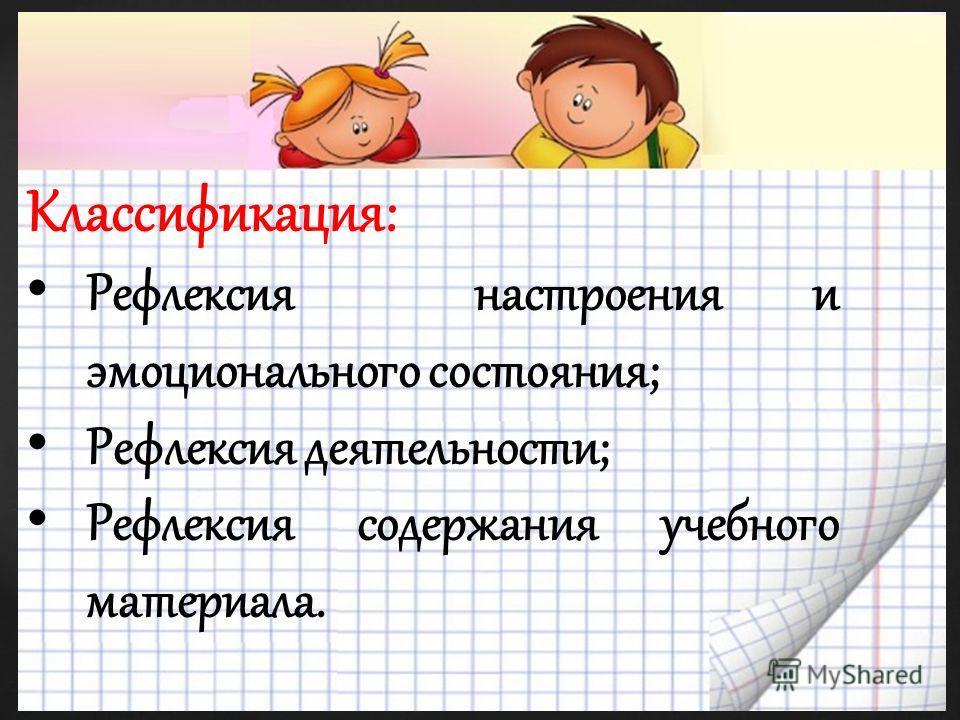 Журнал педагогического образования, 61 (4), 339–349.
Журнал педагогического образования, 61 (4), 339–349.
Артикул Google Scholar
Шён, Д.А. (1983). Рефлексивный практик: как думают профессионалы в действии . Нью-Йорк: Basic Books, Inc.
Google Scholar
Симидзу Ю., Каур Б., Хуанг Р. и Кларк Д. (ред.). (2010). Математические задачи в классах по всему миру . Роттердам: Смысл.
Google Scholar
Штейн М.К. и Лейн С. (1996). Учебные задачи и развитие способности учащихся думать и рассуждать: анализ взаимосвязи между преподаванием и обучением в проекте реформы математики. Образовательные исследования и оценка, 2 , 50–80.
Артикул Google Scholar
Штейн, М.К., Гровер, Б.В., и Хеннингсен, Массачусетс (1996). Наращивание способностей учащихся к математическому мышлению и рассуждениям: анализ математических задач, используемых в классах реформы. Американский журнал исследований в области образования, 33 (2), 455–488.
Американский журнал исследований в области образования, 33 (2), 455–488.
Артикул Google Scholar
Национальное агентство образования Швеции.(2016). Läroplan for grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016). Эландерс Свериге АБ.
Салливан, П. (2011). Преподавание математики: использование стратегий, основанных на исследованиях (Australian Education Review, 59) . Камберуэлл: Австралийский совет по исследованиям в области образования.
Google Scholar
Лебедь, М. (2005). Улучшение обучения математике: проблемы и стратегии .Лондон: DfES.
Google Scholar
Лебедь, М. (2011). Разработка задач, бросающих вызов ценностям, убеждениям и практикам: модель профессионального развития практикующих учителей. В О. Заславски и П. Салливане (редакторы), Создание знаний для преподавания средней математики: задачи для повышения перспективного и практикующего обучения учителей (стр.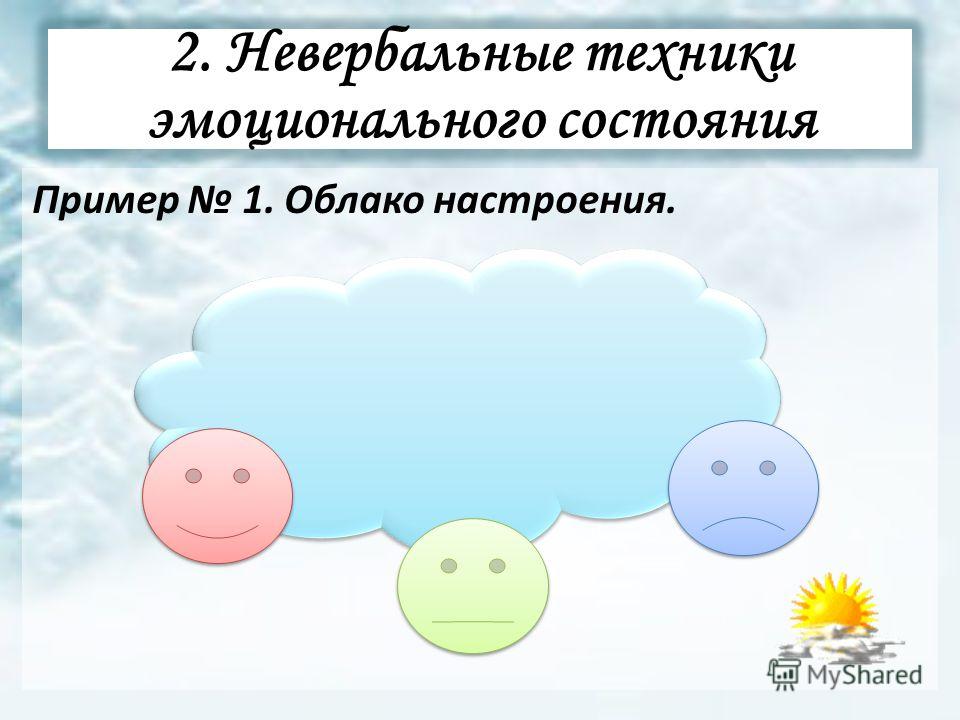 57–71). Берлин: Спрингер.
57–71). Берлин: Спрингер.
Глава Google Scholar
Ванхулле, С.(2005). Как будущие учителя развивают профессиональные знания посредством рефлективного письма в диалогическом фрейме. L1-Образовательные исследования в области языка и литературы., 5 (3), 287–314.
Артикул Google Scholar
Заславский О. (2010). Объяснительная сила примеров в математике: задачи для обучения. В MK Stein & L. Kucan (Eds.), Учебные пояснения по дисциплинам (стр. 107–128).Нью-Йорк: Спрингер.
Глава Google Scholar
Уэйк Г., Свон М. и Фостер К. (2016). Профессиональное обучение через совместную разработку уроков по решению проблем. Журнал образования учителей математики, 19 (2), 243–260.
Артикул Google Scholar
Уотсон, А., и Мейсон, Дж. (2002). Созданные учащимися примеры в изучении математики. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 2 (2), 237–249.
Артикул Google Scholar
Учебник по физике: Закон отражения
Известно, чтоЛайт ведет себя очень предсказуемо. Если бы можно было наблюдать луч света, приближающийся к плоскому зеркалу и отражающийся от него, то поведение света при отражении подчинялось бы предсказуемому закону 90 599 90 600, известному как закон отражения 90 601 90 602 .Диаграмма ниже иллюстрирует закон отражения.
На диаграмме луч света, приближающийся к зеркалу, известен как падающий луч (обозначен на диаграмме I ). Луч света, выходящий из зеркала, известен как отраженный луч (обозначен на схеме R ). В точке падения луча на зеркало можно провести линию, перпендикулярную поверхности зеркала. Эта линия известна как нормальная линия (обозначена на схеме N ).Нормальная линия делит угол между падающим и отраженным лучами на два равных угла. Угол между падающим лучом и нормалью известен как угол падения . Угол между отраженным лучом и нормалью известен как угол отражения . (Эти два угла обозначаются греческой буквой «тета», сопровождаемой нижним индексом; читаются как «тета-i» для угла падения и «тета-r» для угла отражения.) Закон отражения гласит, что когда луч света отражается от поверхности, угол падения равен углу отражения.
Отражение и локализация изображений
Часто можно наблюдать действие этого закона в физической лаборатории, например той, что описана в предыдущей части Урока 1. Чтобы увидеть изображение карандаша в зеркале, вы должны смотреть вдоль линии в месте расположения изображения. Когда вы смотрите на изображение, свет проходит к вашему глазу по пути, показанному на диаграмме ниже. На диаграмме видно, что свет отражается от зеркала таким образом, что угол падения равен углу отражения.
Так уж получилось, что свет, идущий по линии взгляда к вашему глазу, подчиняется закону отражения. (Причина этого будет обсуждаться позже в Уроке 2). Если бы вы смотрели вдоль линии в месте, отличном от местоположения изображения, было бы невозможно, чтобы луч света исходил от объекта, отражался от зеркала в соответствии с законом отражения и впоследствии попадал в ваш глаз. Только когда вы смотрите на изображение, свет от объекта отражается от зеркала в соответствии с законом отражения и попадает в ваш глаз.Эта истина изображена на диаграмме ниже.
Например, на диаграмме А выше глаз направлен вдоль линии в положение выше фактического местоположения изображения. Чтобы свет от объекта отражался от зеркала и попадал в глаз, свет должен отражаться таким образом, чтобы угол падения был меньше угла отражения. На приведенной выше диаграмме B глаз направлен вдоль линии в положение на 90 599 ниже 90 600 фактического местоположения изображения.В этом случае, чтобы свет от объекта отразился от зеркала и попал в глаз, свет должен отражаться таким образом, чтобы угол падения был больше, чем угол отражения. Ни один из этих случаев не следует закону отражения. Фактически в каждом случае изображение не видно при визировании по указанной линии визирования. Именно из-за закона отражения глаз должен смотреть на место изображения, чтобы увидеть изображение объекта в зеркале.
Проверьте свое понимание
1.Рассмотрим схему справа. Какой из углов (А, В, С или D) является углом падения? ______ Какой из углов является углом отражения? ______
2. Луч света падает на плоское зеркало под углом 30 градусов к поверхности зеркала. Каким будет угол отражения?
3.Возможно, вы наблюдали изображение солнца в окнах отдаленных зданий в момент восхода или захода солнца. Однако в окнах дальнего здания в полдень не видно изображения солнца. Используйте диаграмму ниже, чтобы объяснить, нарисовав соответствующие световые лучи на диаграмме.
4. Луч света приближается к набору из трех зеркал, как показано на рисунке.Луч света подходит к первому зеркалу под углом 45 градусов к поверхности зеркала. Проследите путь луча света, когда он отражается от зеркала. Продолжайте отслеживать луч, пока он, наконец, не выйдет из зеркальной системы. Сколько раз отразится луч, прежде чем он, наконец, выйдет?
Как написать реферат — академические навыки
- Почему рефлексивное письмо?
- Типы рефлексивного письма
- Подходы к рефлексивному исследованию
- Заметка по механике
Почему рефлексивное письмо?
Reflection предлагает вам возможность подумать о том, как ваш личный опыт и наблюдения формируют ваше мышление и принятие новых идей.Профессора часто просят студентов написать размышления о чтении. Они делают это, чтобы побудить вас исследовать свои собственные идеи о тексте, выражать свое мнение, а не обобщать мнения других. Рефлексивное письмо может помочь вам улучшить свои аналитические навыки, потому что оно требует от вас выражения того, что вы думаете, и, что более важно, того, как и почему вы так думаете. Кроме того, рефлексивный анализ просит вас признать, что ваши мысли формируются вашими предположениями и предвзятыми идеями; при этом вы сможете оценить идеи других, заметить, как их предположения и предвзятые идеи могли сформировать их мысли, и, возможно, распознать, как ваши идеи поддерживают или противоречат тому, что вы читаете.
Типы рефлексивного письма
Эмпирическое отражение
Популярный в профессиональных программах, таких как бизнес, уход за больными, социальная работа, судебная экспертиза и образование, рефлексия является важной частью установления связи между теорией и практикой. Когда вас просят поразмышлять об опыте размещения, вы не только описываете свой опыт, но и оцениваете его, основываясь на идеях, полученных в классе. Вы можете оценить теорию или подход на основе своих наблюдений и практики, а также оценить свои собственные знания и навыки в своей профессиональной области. Эту возможность уделить время тому, чтобы подумать о своем выборе, своих действиях, своих успехах и неудачах, лучше всего использовать в рамках определенной структуры, такой как темы курса или цели стажировки. Абстрактные концепции могут стать для вас конкретными и реальными, если рассматривать их в рамках вашего собственного опыта, а размышления о своем опыте позволяют вам строить планы по улучшению.
Чтение Отражение
Чтобы поощрить вдумчивую и сбалансированную оценку прочитанного, многие междисциплинарные курсы могут попросить вас представить размышление о прочитанном.Часто преподаватели указывают студентам, что они ожидают от размышлений, но общая цель состоит в том, чтобы выяснить ваше обоснованное мнение об идеях, представленных в тексте, и рассмотреть, как они влияют на вашу интерпретацию. Размышления о чтении дают возможность распознать и, возможно, разрушить ваши предположения, которые могут быть опровергнуты текстом(ами).
Подходы к рефлексивному исследованию
Вам может быть интересно, как ваши преподаватели оценивают ваше рефлексивное письмо.Что они ищут? Как мой опыт или идеи могут быть правильными или неправильными? Ваши преподаватели ожидают, что вы будете критически относиться к понятиям из вашего курса, установив связь между вашими наблюдениями, опытом и мнениями. Они ожидают, что вы объясните и проанализируете эти понятия со своей точки зрения, выявив оригинальные идеи и поощряя активный интерес к материалам курса.
Может быть трудно понять, с чего начать при написании критического размышления.Во-первых, знайте, что, как и любое другое академическое произведение, размышление требует узкой направленности и серьезного анализа. Наилучший подход к выявлению фокуса и рефлексивному анализу — опрос. Следующее предлагает предложения для вашей линии исследования при разработке рефлексивного ответа.
Эмпирическое отражение
Лучше всего обсуждать свой опыт трудоустройства или практики в контексте личных или организационных целей; это дает важные идеи и перспективы для вашего собственного роста в профессии.Для рефлексивного письма важно сбалансировать отчетность или описательное письмо с критическим размышлением и анализом.
Рассмотрим эти вопросы:
- Контекстуализируйте свои размышления: Каковы ваши цели обучения? Каковы цели организации? Как эти цели согласуются с темами или концепциями курса?
- Предоставьте важную информацию: как называется принимающая организация? Какова их миссия? Кому они служат? Какова была ваша роль? Что ты сделал?
- Аналитическое размышление: Что вы узнали из этого опыта? О себе? О работе в поле? Об обществе?
- Уроки из размышлений: Соответствовал ли ваш опыт целям или концепциям курса или организации? Почему или почему нет? Каковы ваши уроки на будущее? Что удалось? Почему? Что бы вы сделали по-другому? Почему? Как вы будете готовиться к будущему опыту работы в этой области?
Рассмотрим цель размышления: продемонстрировать свои знания в курсе.Важно активно и напрямую связывать понятия из занятий с вашими личными или эмпирическими размышлениями. В следующем примере показано, как можно проанализировать наблюдения учащегося в классе с использованием теоретической концепции и как полученный опыт может помочь учащемуся оценить эту концепцию.
Например
Мои наблюдения в классе показывают, что иерархическая структура таксономии Блума проблематична, концепция, также исследованная Полом (1993). Учащиеся часто комбинировали такие действия, как применение и синтез или анализ и оценка, чтобы расширить свои знания и понять незнакомые концепции.Это бросает вызов моему пониманию традиционных методов обучения, в которых знания являются основой для исследования. Возможно, стратегии обучения более высокого порядка, такие как исследование и оценка, также могут быть основой для знаний и понимания, которые классифицируются как навыки более низкого порядка в таксономии Блума.
Чтение Отражение
Критическое размышление требует вдумчивого и настойчивого исследования. Хотя основные вопросы вроде «в чем состоит тезис?» и «какие доказательства?» важны для демонстрации вашего понимания, вам необходимо подвергнуть сомнению свои собственные предположения и знания, чтобы углубить свой анализ и сфокусировать свою оценку текста.
Оценить текст(ы):
- Что главное? Как он развивается? Определите цель, воздействие и/или теоретическую основу текста.
- Какие идеи мне запомнились? Почему? Были ли они новыми или противоречили существующей науке?
Развивайте свои идеи:
- Что я знаю об этой теме? Откуда берутся мои существующие знания? Какие наблюдения или опыт формируют мое понимание?
- Согласен я или не согласен с этим аргументом? Почему?
Соединения:
- Как этот текст подкрепляет мои существующие идеи или предположения? Как этот текст бросает вызов моим существующим идеям или предположениям?
- Как этот текст помогает мне лучше понять эту тему или изучить эту область обучения/дисциплины?
Заметки по механике
Как и в случае со всеми письменными заданиями или отчетами, при написании важно иметь четкую направленность.Вам не нужно обсуждать каждый опыт или элемент вашего размещения. Выберите несколько, которые вы можете изучить в контексте вашего обучения. Для рефлексивных ответов определите основные аргументы или важные элементы текста, чтобы разработать более сильный анализ, который объединяет соответствующие идеи из материалов курса.
Кроме того, ваше письмо должно быть организовано. Представьте свою тему и то, что вы планируете сделать о своем опыте и обучении. Развивайте свою точку зрения с помощью основного абзаца (абзацев) и завершите статью, исследуя значение, которое вы извлекаете из своих размышлений.Возможно, вы обнаружите, что вопросы, перечисленные выше, могут помочь вам составить план до того, как вы напишете свою статью.
Вы должны поддерживать формальный тон, но допустимо писать от первого лица и использовать личные местоимения. Обратите внимание, однако, что важно сохранять конфиденциальность и анонимность клиентов, пациентов или студентов с работы или трудоустройства волонтеров, используя псевдонимы и маскируя идентифицирующие факторы.
Ценность размышлений. Критическое размышление — это значимое упражнение, которое может потребовать столько же времени и усилий, сколько и традиционные эссе и отчеты, потому что требует от учащихся быть целеустремленными и заинтересованными участниками, читателями и мыслителями.
Структура академических размышлений | Эдинбургский университет
Руководство по структуре академических размышлений.
| Срок | Как он используется |
|---|---|
| Академическая/профессиональная рефлексия | Любые размышления, которые, как ожидается, будут представлены для оценки в академическом, профессиональном контексте или в контексте развития навыков. Академическая рефлексия будет использоваться в первую очередь, но относится ко всем трем областям. |
| Частное отражение | Отражение, которое вы делаете там, где вы единственная целевая аудитория. |
Обзор
Академические размышления или рефлексивное письмо, выполненное для оценивания, часто требуют четкой структуры. Вопреки мнению некоторых людей, рефлексия — это не просто личный дневник, рассказывающий о вашем дне и ваших чувствах.
И язык, и структура важны для академического рефлексивного письма.Для структуры, которую вы хотите точно отразить в академическом эссе. Вам нужно введение, основная часть и заключение.
Академическая рефлексия потребует от вас описания контекста, его анализа и выводов. Однако не существует единого свода правил относительно того, какая часть вашего размышления должна быть потрачена на описание контекста, и какая часть должна быть потрачена на анализ и заключение. При этом, поскольку обучение, как правило, происходит при анализе и синтезе, а не при описании, хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы описывать ровно столько, чтобы читатель понял ваш контекст.
Пример структуры академических размышлений
Ниже приведен пример того, как вы могли бы структурировать академическое размышление, если бы вам не дали других указаний, и что может содержать каждый раздел. Помните, что это всего лишь предложение, и вы должны подумать, что подходит для поставленной задачи и для вас самих.
Идентифицирует и представляет ваш опыт или знания
- Это может быть критический инцидент
- Это может быть рефлективная подсказка, которую вы получили
- Особое обучение, которое вы получили
При структурировании ваших академических размышлений может иметь смысл начать с того, что вы узнали, а затем использовать основную часть, чтобы подтвердить это обучение, используя конкретный опыт и события.В качестве альтернативы начните с события и выстраивайте свои аргументы. Это вопрос личных предпочтений — если вам не дали явных указаний, вы можете спросить оценщика, есть ли у него предпочтения, однако и то, и другое может работать.
Подчеркивает, почему это важно
- Это может указывать на то, почему это событие было важно для обучения, которое вы получили
- Это может быть причиной того, почему полученные знания принесут вам пользу, или почему вы цените их в вашем контексте
Возможно, вы обнаружите, что неестественно подчеркивать важность события, пока вы не разработаете аргументы в пользу того, что вы от него выиграли.Можно не заявлять явно о важности во введении, а оставить ее для развития на протяжении всего вашего размышления.
Обозначьте основные темы, которые появятся в размышлении (необязательно, но особенно важно при ответе на вопрос или эссе)
- Это может быть вступление к вашему аргументу, знакомство с элементами, которые вы будете исследовать, или которые будут опираться на уже полученные вами знания.
Это может не иметь смысла, если вы размышляете о конкретном опыте, но чрезвычайно ценно, если вы отвечаете на подсказку или пишете эссе, которое включает в себя несколько пунктов обучения.Тип подсказки или вопроса, который может быть особенно полезен, может быть следующим: «Подумайте, как навыки и теория в рамках этого курса помогли вам соответствовать эталонным утверждениям вашей степени»
Может быть полезно исследовать одну тему/обучение в каждом абзаце.
Исследуйте опыт
- Вы должны выделить и изучить опыт, представленный во введении
- Если вы готовитесь к ответу на рефлективную подсказку, изучите каждый соответствующий опыт.
Поскольку осмысление сосредоточено на личном опыте человека, очень важно сделать его основным компонентом осмысления. Это не означает, что большая часть рефлексивной части должна быть посвящена описанию события — на самом деле вы должны описывать ровно столько, чтобы читатель мог следить за вашим анализом.
Анализ и синтез
- Вы должны анализировать каждый свой опыт и извлекать из него новые знания
В зависимости от требований оценки вам может понадобиться использовать теоретическую литературу в вашем анализе.Теоретическая литература — это часть принятия точки зрения, которая важна для размышлений и будет частью вашего анализа.
Переформулируйте или изложите свои знания
- Сделайте вывод на основе вашего анализа и синтеза.
- Если у вас есть много тем в ваших размышлениях, может быть полезно переформулировать их здесь.
План на будущее
- Выделите и обсудите, как ваши новые знания повлияют на вашу будущую практику
Ответьте на вопрос или подсказку (если применимо)
- Если вы отвечаете на вопрос эссе или на подсказку, убедитесь, что ваше заключение содержит краткий ответ, используя основную часть в качестве доказательства.
Использование рефлексивной модели для структурирования академических размышлений
Вы могли заметить, что большинство отражающих моделей отражают эту структуру; вот почему многие рефлексивные модели могут быть действительно полезны для структурирования рефлексивных заданий. Модели естественным образом построены таким образом, чтобы сосредоточиться на одном опыте. Если задание требует, чтобы вы сосредоточились на нескольких опытах, может быть полезно просто повторить каждый шаг модели для каждого опыта.
Одно из различий между структурой рефлексивного письма и структурой моделей заключается в том, что иногда вы можете представить свои знания во вступлении к письменной части, в то время как в моделях (учитывая, что они поддерживают работу в процессе рефлексии) обучение будет выглядеть на более поздних стадиях.
Однако, как правило, структурирование академического письма на основе рефлексивной модели гарантирует, что оно включает в себя правильные компоненты, читается связно и логично, а также имеет соответствующую структуру.
Рефлексивные журналы/дневники/блоги и другие материалы оцениваемых размышлений
Приведенный выше пример структуры особенно хорошо подходит для формальных заданий, таких как рефлексивные эссе и отчеты. Рефлексивный журнал/блоги и другие части оцениваемых размышлений, как правило, менее формальны как по языку, так и по структуре, однако вы можете легко адаптировать структуру для журналов и других рефлексивных заданий, если сочтете это полезным.
То есть, если вас попросят создать рефлексивный журнал с несколькими записями, он чаще всего (всегда уточняйте у человека, выдавшего задание) будет успешным, если каждая запись отражает структуру, указанную выше, и язык, выделенный в разделе, посвященном академический язык. Тем не менее, часто вы можете меньше заботиться о форме при создании журналов/дневников для размышлений.
При создании рефлексивных журналов часто допустимо включать ваши оригинальные размышления, если вам удобно делиться содержанием с другими, и включенная информация не является слишком личной для того, чтобы оценщик мог ее прочитать.
Разработано на основе:
Райан, М., 2011. Улучшение рефлексивного письма в высшем образовании: социально-семиотическая перспектива. Преподавание в высшем образовании, 16(1), 99-111.
Университет Портсмута, факультет учебных программ и повышения качества (дата недоступна). Рефлексивное письмо: основное введение [онлайн]. Портсмут: Портсмутский университет.
Университет королевы Маргарет, Служба эффективного обучения (дата неизвестна).Отражение. [онлайн]. Эдинбург: Университет королевы Маргарет.
вопросов для размышления: определение и примеры — видео и стенограмма урока
Вопросы для анализа процесса
Миссис Карелло — учитель рисования, которая особенно любит использовать вопросы для анализа процесса на своих занятиях. Она объясняет, что вопросов для анализа процесса — это вопросы, которые помогают учащимся подумать о том, как они учились или участвовали в деятельности. Вот некоторые примеры вопросов для отражения процесса:
- Что, по вашему мнению, вы сделали хорошо во время этого проекта?
- Какие новые навыки или знания вы опробовали во время этого проекта?
- Если вы работали над этим проектом вместе с другими учащимися, опишите этот опыт и то, как, по вашему мнению, он прошел.
- Как вы думаете, что вы могли бы сделать по-другому, если бы снова попробовали этот проект?
Отвечая на вопросы об анализе процесса, учащиеся действительно сосредотачиваются на своих собственных методах обучения и работы. Ответы на такого рода вопросы помогают им понять свои сильные и слабые стороны в процессе обучения. Миссис Карелло читает размышления своих учеников и обсуждает с ними их ответы, прежде чем они начнут новый проект.
Вопросы по продукту
Mr.Сэмюэл — учитель обществознания, который заинтересован в использовании вопросов, связанных с отражением продукта, со своими учениками. Г-н Сэмюэл объясняет, что вопросов для размышления о продукте помогают учащимся сосредоточиться на том, как получилась их окончательная работа. Он использует такого рода вопросы, чтобы помочь учащимся сориентироваться в своих достижениях в течение года. Вот некоторые из основных вопросов г-на Самуэля:
- Чем вы больше всего гордитесь в своей работе и почему?
- Чем в своей работе вы меньше всего гордитесь и почему?
- С кем бы вы хотели поделиться этой работой и почему?
Когда г.Ученики Сэмюэля делятся своей итоговой работой, они также делятся своими ответами на эти вопросы для размышления, чтобы они могли открыто и честно рассказать о своих чувствах и о том, чем закончилась их работа.
Вопросы для размышления в качестве обратной связи
Г-н Бартон — учитель 4-го класса, который часто использует вопросов для размышления со своими учениками, чтобы узнать их мнение о его собственном обучении. Когда его ученики выполняют групповую работу, он также использует вопросы для размышления, чтобы побудить их давать деликатные отзывы друг другу об их вкладе в работу группы.Некоторые примеры вопросов для размышления, предназначенных для обратной связи, включают:
- Что вам больше всего понравилось в этом задании и почему?
- Как вы думаете, что вы узнали из этого занятия?
- Что было самым сложным или наименее интересным в этом задании?
- Как ваши товарищи по группе помогли вам и вашему обучению?
- Что было самым сложным при выполнении этой работы в группе?
Учащимся мистера Бартона нравятся такие вопросы для размышления, потому что они знают, что их учитель серьезно относится к их отзывам и заботится о том, как, по их мнению, идет их обучение.
Вопросы для самооценки
Г-жа Лазар, учитель математики, задает вопросов для самооценки , потому что ее действительно интересует, как учащиеся оценивают свое обучение. Когда они заканчивают раздел ее урока математики, она обычно просит своих учеников ответить на следующие вопросы:
- Как вы думаете, какие сильные стороны вы продемонстрировали на этом уроке?
- С какими трудностями вы столкнулись в этом подразделении?
- Какую оценку и комментарии вы бы поставили себе за работу в этом разделе и почему?
После того, как ее ученики ответили на эти вопросы, Ms.Лазар совещается с ними по отдельности, чтобы обсудить, насколько ее оценка соотносится с их собственной. Затем она планирует последующие блоки, используя информацию из размышлений учащихся.
Краткий обзор урока
Размышление об обучении на самом деле очень важный и полезный способ максимально использовать его. Вопросы для размышления над процессом, вопросы для размышления о продукте, вопросы для размышления, предназначенные для обратной связи, и вопросы для размышления, предназначенные для самооценки, могут обогатить обучение учащихся и ощутить, что они вносят свой вклад в свой собственный школьный опыт.
Вопросы для размышления: занятия
Приведенные ниже действия предназначены для того, чтобы помочь вам понять цель вопросов для размышления и поработать над составлением собственных вопросов для размышления.
Подходит для
В этом упражнении сопоставьте тип вопроса для размышления с целью, которую он выполняет.
- Этот тип вопросов для размышления побуждает учащихся задуматься о том, что они узнали в ходе занятия и/или как они участвовали в выполнении задания.
- Этот тип вопросов для размышления позволяет учителям оценить собственное преподавание, предлагая учащимся оценить сильные и слабые стороны того или иного занятия.
- Этот тип вопросов для размышления побуждает учащихся оценивать собственные усилия, процесс и достижения.
- Этот тип вопросов для размышления побуждает учащихся оценить качество своего задания.
- Обратная связь Вопросы для размышления
- Вопросы по отражению продукта
- Вопросы для размышления о процессе
- Вопросы для самооценки
Ключ к ответу: 1: Вопросы для размышления о процессе; 2: Вопросы для отражения обратной связи; 3: Вопросы для самооценки; 4: Вопросы об отражении продукта
Написание собственных вопросов для размышления
Представьте, что вы преподаете курс Солнечной системы.Вы просите учащихся создать мобильную модель положения планет в нашей Солнечной системе относительно друг друга и Солнца. Ожидается, что учащиеся создадут привлекательные трехмерные планеты, которые представляют цвет и общий размер планеты по отношению к другим планетам.
Принимая во внимание это задание и его ожидания, составьте не менее четырех различных вопросов для размышления, на которые должны ответить учащиеся. У вас должен быть хотя бы один тип каждого вопроса на размышление, представленного на уроке.
Отражающий лист
Отражающие листы
Зачем мне это делать:
- Мы учимся у размышляя над опытом, хорошим и плохим. Лист для размышлений — очень эффективный инструмент, который можно использовать, когда учащийся демонстрирует неприемлемое или приемлемое поведение и может использоваться в в сочетании с Правилами класса. Листы можно использовать, чтобы помочь исправить нежелательное поведение или, в качестве альтернативы, чтобы укрепить тех студентов, которые следуют правилам и демонстрация ожидаемого и желаемого поведения.
Когда я должен это сделать:
- Когда студенты демонстрируют неприемлемое поведение.
- Когда студенты не соблюдают правила школы/класса.
- Когда студенты выполняют задание, демонстрируют соответствующее поведение и следят за школой/классом правила.
Как это сделать:
- Студент сказали идти в центр рефлексии.
- Учитель кратко объясняет учащемуся, почему его посылают и какое поведение или правила, которые они нарушали.
- Студент уходит, чтобы поразмыслить над своим поведением, и завершает размышление Лист, обсуждая его с Учителем после его заполнения.
- Таймер может быть использовал.
- Альтернативы письмо может быть рисованием картинок, разговором в микрофон и записью ответы или ввод ответов в компьютер.
- Настольный набор помимо других студентов может служить центром размышлений.




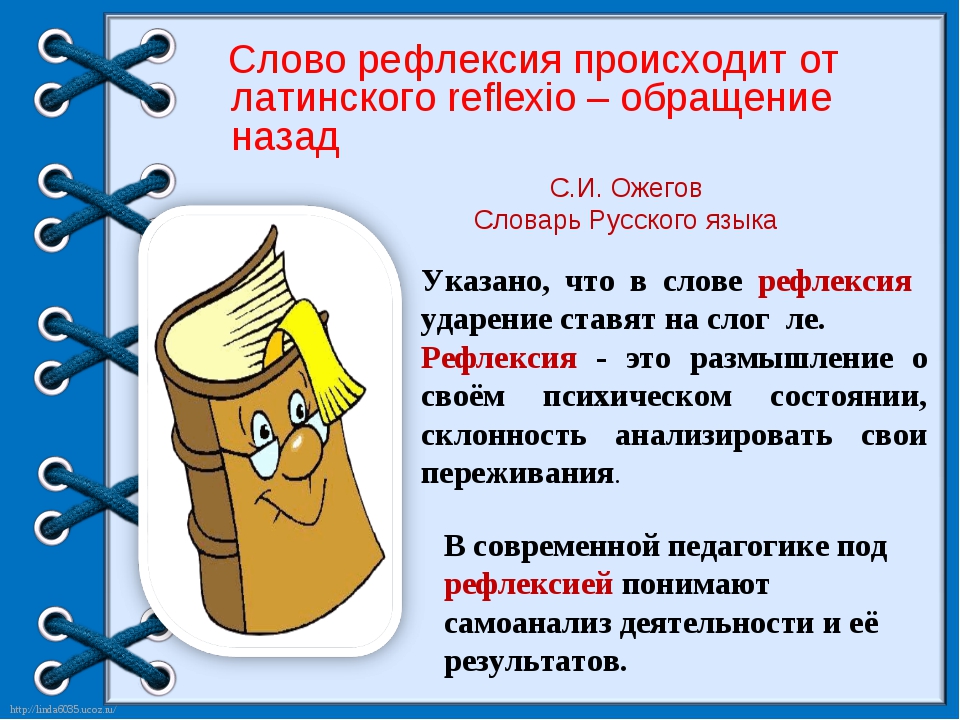 Культурологический комментарий. Телия В.Н. – М. : «АСТ-ПРЕСС», 2008. –
782 с.
Культурологический комментарий. Телия В.Н. – М. : «АСТ-ПРЕСС», 2008. –
782 с.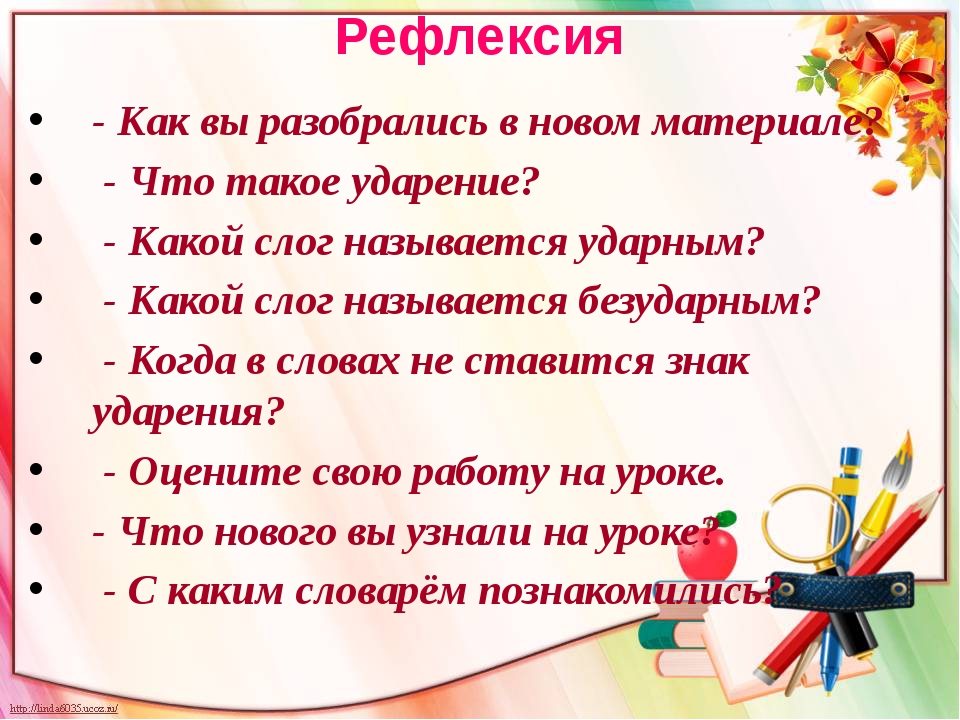 Они живут и живут, как-то работают, зарабатывают деньги и о развитии вообще не думают.
Они живут и живут, как-то работают, зарабатывают деньги и о развитии вообще не думают. 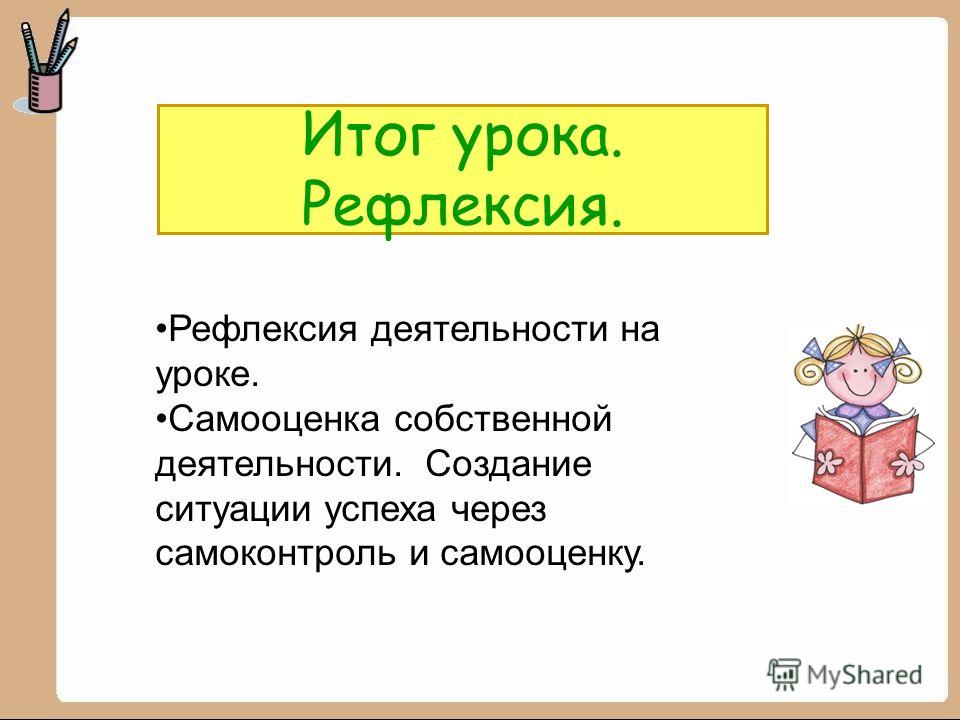
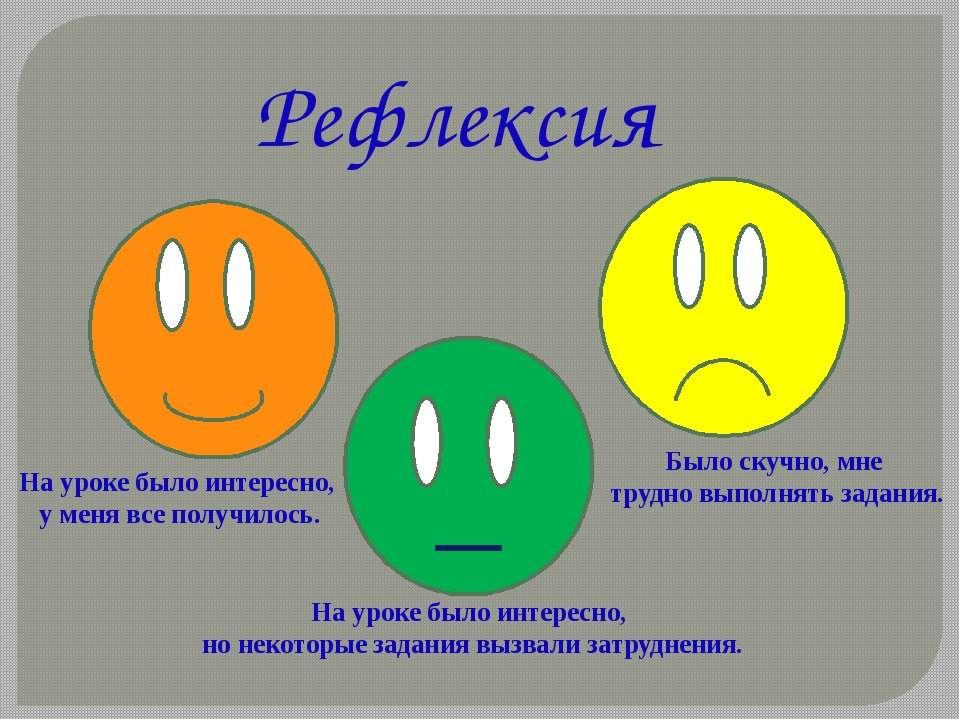
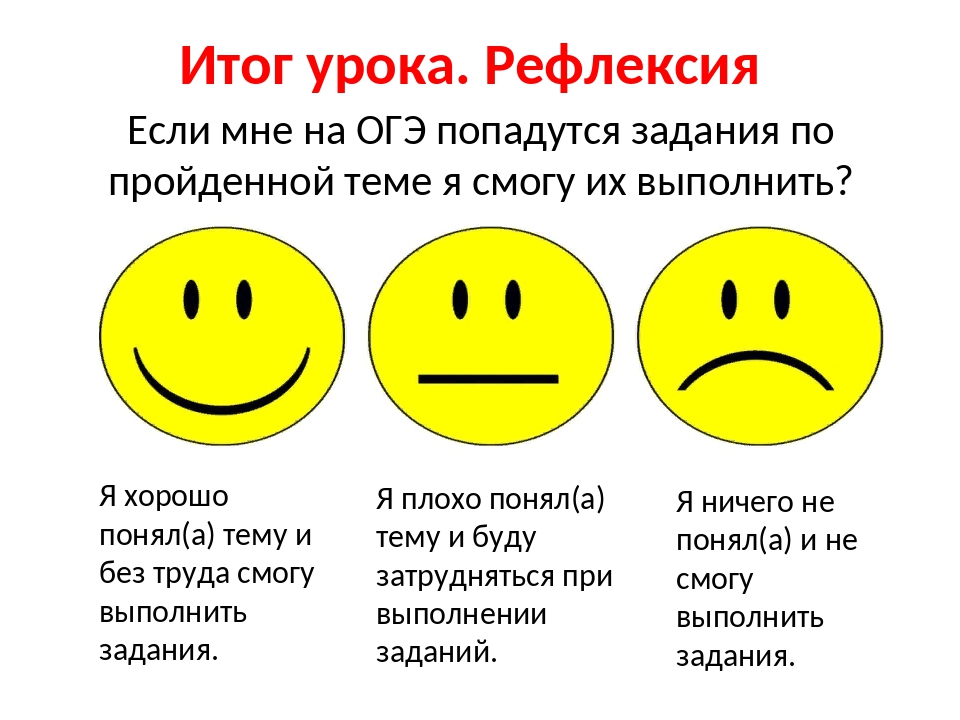 То есть уровень осознанности каждого сотрудника в команде таков, что человек самодисциплинирован, самообучаем, самомотивирован и разделяет миссию компании. Только такая команда может стать звеном в плоской структуре.
То есть уровень осознанности каждого сотрудника в команде таков, что человек самодисциплинирован, самообучаем, самомотивирован и разделяет миссию компании. Только такая команда может стать звеном в плоской структуре.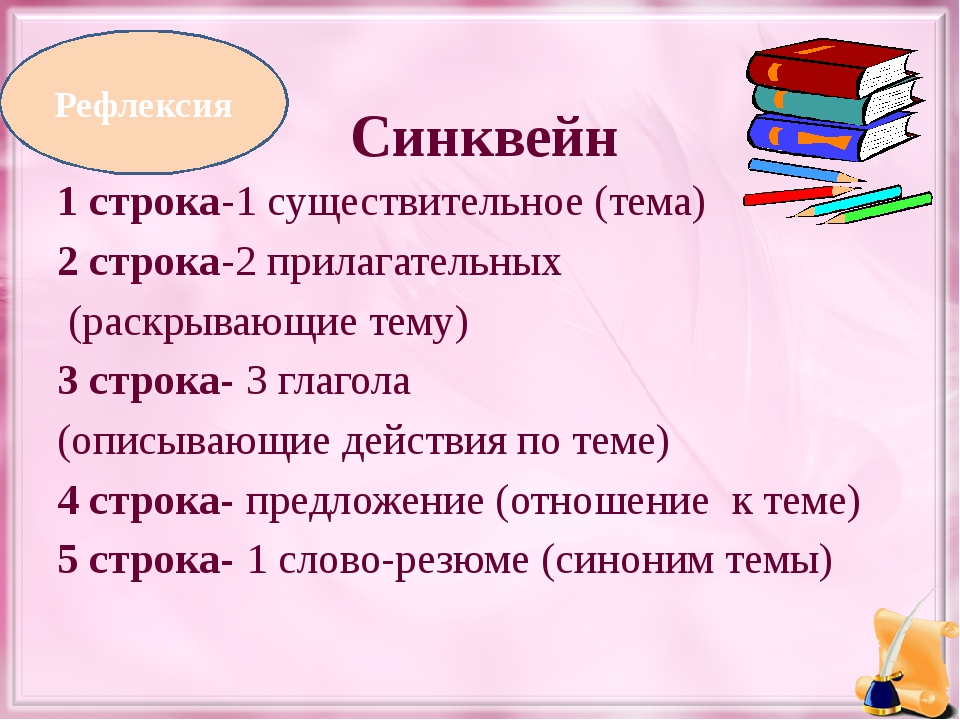 Эффективность руководителя при этом значительно выше и составляет условные 1:3. Если развивать знания и компетенции, можно работать с командой от 3 до 10 человек.
Эффективность руководителя при этом значительно выше и составляет условные 1:3. Если развивать знания и компетенции, можно работать с командой от 3 до 10 человек.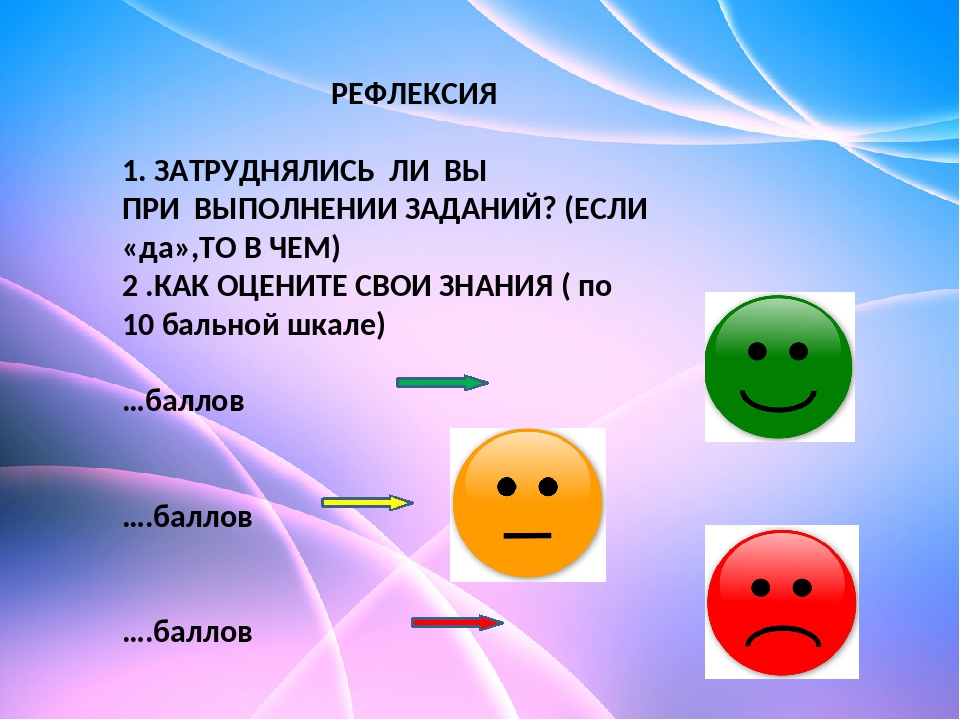 Поговорим о том, когда лидерство может выглядеть как токсичность и наоборот и как тимлиду подходить к организации командной работы для решения сложных проблем (в отличие от работы с задачами).
Поговорим о том, когда лидерство может выглядеть как токсичность и наоборот и как тимлиду подходить к организации командной работы для решения сложных проблем (в отличие от работы с задачами). И третий момент — вот хорошо, мы говорим о рефлексии, употребляем этот термин. А можем ли мы, как психологи, его пощупать? Можем ли мы его, как психологи, экспериментально исследовать? Если можем, то как? Здесь мы уже должны применить к её исследованию, конструированию, скажем, психологическому, в общем-то, некоторую психологию. Есть кое-какие намётки, о которых я хотел бы вам рассказать. Вот на этих трёх темах я и хотел бы сегодня остановиться. Ещё маленькое техническое замечание — поскольку все мы здесь за столом, не на лекции, то все вопросы задавайте прямо по ходу рассказа.
И третий момент — вот хорошо, мы говорим о рефлексии, употребляем этот термин. А можем ли мы, как психологи, его пощупать? Можем ли мы его, как психологи, экспериментально исследовать? Если можем, то как? Здесь мы уже должны применить к её исследованию, конструированию, скажем, психологическому, в общем-то, некоторую психологию. Есть кое-какие намётки, о которых я хотел бы вам рассказать. Вот на этих трёх темах я и хотел бы сегодня остановиться. Ещё маленькое техническое замечание — поскольку все мы здесь за столом, не на лекции, то все вопросы задавайте прямо по ходу рассказа.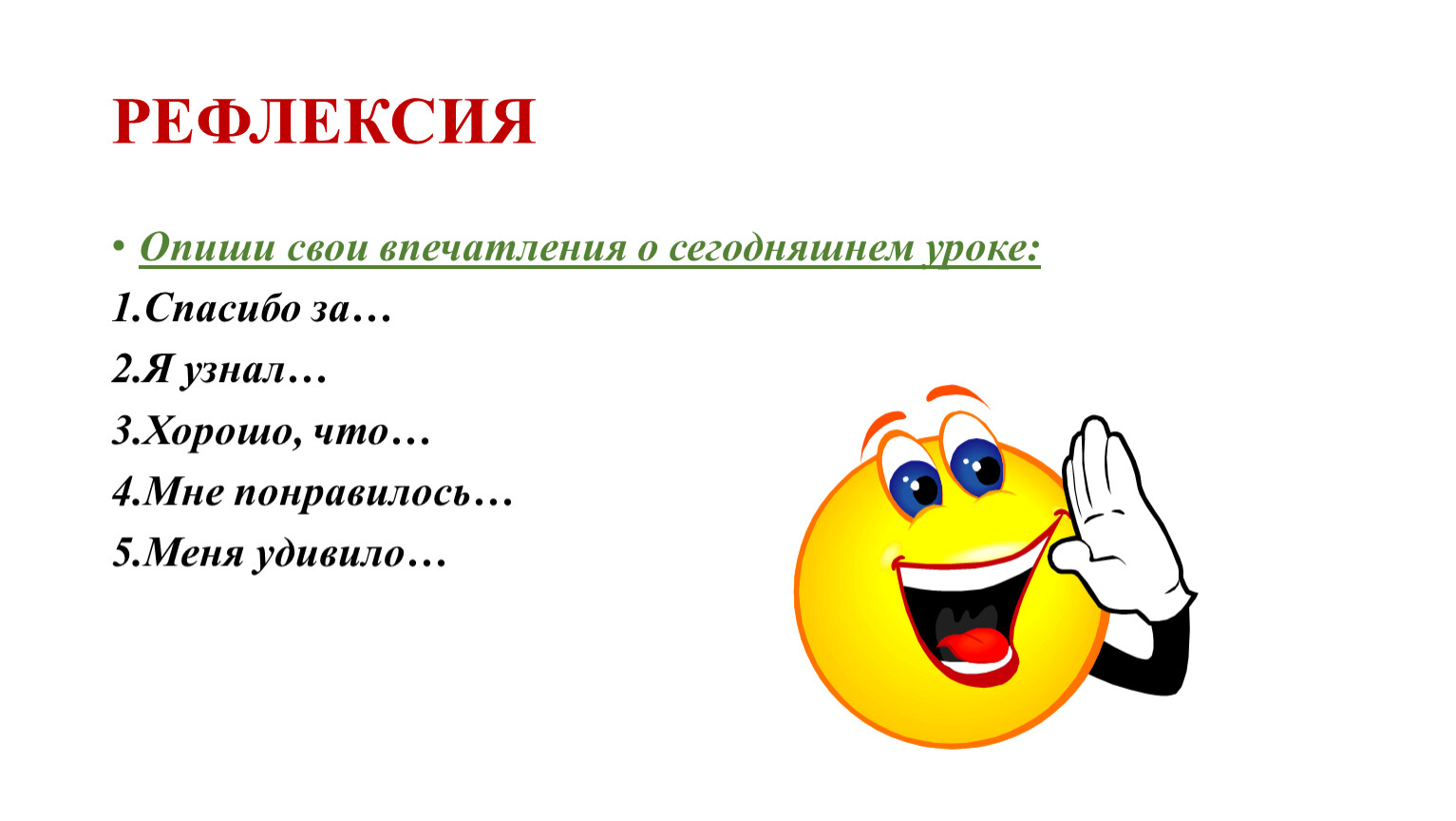 Мышление у него возникает из опыта, любое. Ему очень важно это было. Он даже считал, что то, что вне опыта, не может быть проверено, установлено. Этим самым Локк противостоял, прежде всего, Декарту, и через Декарта — средневековой схоластике. Как же он к этому приходил? Скажем, — он выводил идеи. Ощущения, представления, идеи. У него мысли о внешнем достаточно логично прописывалась через этот ряд. Но опыт этим же не ограничивается. И Локк его называл внешним опытом, или первым путём порождения понятий. И есть некоторый внутренний опыт, есть то, что мы получаем, наблюдая, так сказать, своё сознание или наблюдая сознание других. И вот внутренний опыт, идеи, получаемые при помощи внутреннего опыта, Локк назвал рефлексией. Так появился этот термин. И это очень важно понять, ведь это исходное взросление, отнесение, рефлексия. Такую формулировку и я когда-то писал, что рефлексия есть мышление о мышлении — это фактически есть ничто иное как повторение этой мысли Локка, повторение этого центрального тезиса, и этот тезис устоялся.
Мышление у него возникает из опыта, любое. Ему очень важно это было. Он даже считал, что то, что вне опыта, не может быть проверено, установлено. Этим самым Локк противостоял, прежде всего, Декарту, и через Декарта — средневековой схоластике. Как же он к этому приходил? Скажем, — он выводил идеи. Ощущения, представления, идеи. У него мысли о внешнем достаточно логично прописывалась через этот ряд. Но опыт этим же не ограничивается. И Локк его называл внешним опытом, или первым путём порождения понятий. И есть некоторый внутренний опыт, есть то, что мы получаем, наблюдая, так сказать, своё сознание или наблюдая сознание других. И вот внутренний опыт, идеи, получаемые при помощи внутреннего опыта, Локк назвал рефлексией. Так появился этот термин. И это очень важно понять, ведь это исходное взросление, отнесение, рефлексия. Такую формулировку и я когда-то писал, что рефлексия есть мышление о мышлении — это фактически есть ничто иное как повторение этой мысли Локка, повторение этого центрального тезиса, и этот тезис устоялся.
 И здесь надо немножко разобраться. Дело в том, что Локк, как и материалисты XVIII века, был механическим философом. Они строили картину мира на жёстких основаниях, которые действуют как бы сами по себе. Ощущения закрепляются в представлении, а предтавления закрепляются в идеи. Материалистическая идея об образовании внутреннего по внешнему опыту. Но для чего Локк выделил рефлексию? Произошла следующая вещь. У него практически рефлексия была выражением внутреннего опыта. То есть некоторые наблюдаемые явления сознания проходят таким образом, что сгущаются и получается некоторая идея. Но идея является отражением явления сознания. И поэтому был выбран термин отражение.
И здесь надо немножко разобраться. Дело в том, что Локк, как и материалисты XVIII века, был механическим философом. Они строили картину мира на жёстких основаниях, которые действуют как бы сами по себе. Ощущения закрепляются в представлении, а предтавления закрепляются в идеи. Материалистическая идея об образовании внутреннего по внешнему опыту. Но для чего Локк выделил рефлексию? Произошла следующая вещь. У него практически рефлексия была выражением внутреннего опыта. То есть некоторые наблюдаемые явления сознания проходят таким образом, что сгущаются и получается некоторая идея. Но идея является отражением явления сознания. И поэтому был выбран термин отражение. Я пропущу кучу других философов, мне важно выделить узловые точки. Остановлюсь на Канте.
Я пропущу кучу других философов, мне важно выделить узловые точки. Остановлюсь на Канте. Поскольку, — считал Кант (обратите внимание на содержание этой мысли), — для того, чтобы перейти от схематизма к схематизму, мы каким-то образом должны обратить внимание на собственные схематизмы, то есть, — как он говорил, — на условия своего познания, или способность своего познания. Правильно ли мы используем схематизмы? Он ведь провёл это различение Локка, что рефлексия есть мышление о мышлении, но он этому расчленению придал, или, более точно, наложил на него нечто новое. Я бы выразился так: автоматически/не автоматически. Вот эта вот дихотомия автоматического — неавтоматического была использована для выделения одного случая рефлексии. То, что у Локка, как всегда бывает, содержится только в зародыше, но фактически специально выделено не было.
Поскольку, — считал Кант (обратите внимание на содержание этой мысли), — для того, чтобы перейти от схематизма к схематизму, мы каким-то образом должны обратить внимание на собственные схематизмы, то есть, — как он говорил, — на условия своего познания, или способность своего познания. Правильно ли мы используем схематизмы? Он ведь провёл это различение Локка, что рефлексия есть мышление о мышлении, но он этому расчленению придал, или, более точно, наложил на него нечто новое. Я бы выразился так: автоматически/не автоматически. Вот эта вот дихотомия автоматического — неавтоматического была использована для выделения одного случая рефлексии. То, что у Локка, как всегда бывает, содержится только в зародыше, но фактически специально выделено не было. И второй, очень существенный момент, который внёс в понимание рефлексии Кант, который не очень замечен нами, как его последователями, в каком-то смысле, поскольку мы все стоим на этих плечах. Кант говорил, хотя сам не разводил эту вещь, что рефлексия всегда предполагает сравнение. И это точка зрения капитальной важности. Рефлексия всегда предполагает сравнение, то есть она невозможна, я бы выразился современным языком, в плане или аспекте одной деятельности, в плане нечто одного. Впоследствии этот момент развил Гегель, и я немного позже на этом остановлюсь. Вот это были два, я очень все огрубляю, момента, которые были привнесены в понимание рефлексии Кантом.
И второй, очень существенный момент, который внёс в понимание рефлексии Кант, который не очень замечен нами, как его последователями, в каком-то смысле, поскольку мы все стоим на этих плечах. Кант говорил, хотя сам не разводил эту вещь, что рефлексия всегда предполагает сравнение. И это точка зрения капитальной важности. Рефлексия всегда предполагает сравнение, то есть она невозможна, я бы выразился современным языком, в плане или аспекте одной деятельности, в плане нечто одного. Впоследствии этот момент развил Гегель, и я немного позже на этом остановлюсь. Вот это были два, я очень все огрубляю, момента, которые были привнесены в понимание рефлексии Кантом. Он не владел схемой и системой, в конце которой стоит, по Гегелю, основная категория.
Он не владел схемой и системой, в конце которой стоит, по Гегелю, основная категория.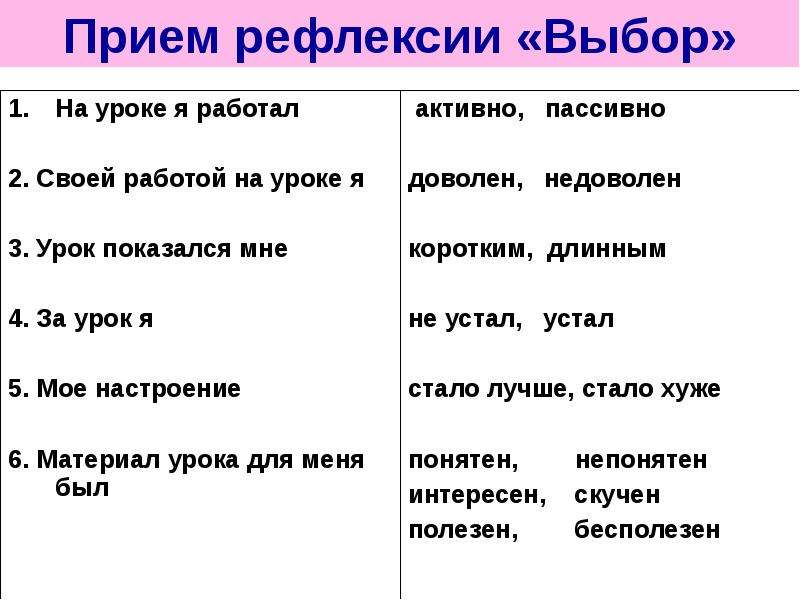 Можно было бы обозначить таким образом исходное расчленение — это Локк, дальнейшая функция — это Кант (я огрубляю, схематизирую), теперь я перейду к тому, что было сделано Фихте. Фихте занялся вопросом, который сейчас может показаться смешным, но который достаточно каверзен и ядовит. Он буквально поставил задачку, которую легче всего представить в образе Барона Мюнхгаузена, который вытаскивает себя за волосы. Фихте сказал так: Можем ли мы быть свободны от собственной мысли, можем ли мы быть свободны от собственного мышления и если да, то как? Вот вопрос, который был одним из центральных в его философской системе. И действительно, давайте подумаем, а как это сделать? Ведь мы же находимся в собственном мышлении, как же мы можем быть от него свободными? Как же мы можем быть свободны от тех построений мысли, с которыми мы мыслим, которыми мы все схватываем и видим?
Можно было бы обозначить таким образом исходное расчленение — это Локк, дальнейшая функция — это Кант (я огрубляю, схематизирую), теперь я перейду к тому, что было сделано Фихте. Фихте занялся вопросом, который сейчас может показаться смешным, но который достаточно каверзен и ядовит. Он буквально поставил задачку, которую легче всего представить в образе Барона Мюнхгаузена, который вытаскивает себя за волосы. Фихте сказал так: Можем ли мы быть свободны от собственной мысли, можем ли мы быть свободны от собственного мышления и если да, то как? Вот вопрос, который был одним из центральных в его философской системе. И действительно, давайте подумаем, а как это сделать? Ведь мы же находимся в собственном мышлении, как же мы можем быть от него свободными? Как же мы можем быть свободны от тех построений мысли, с которыми мы мыслим, которыми мы все схватываем и видим? Достаточно вспомнить конкретный случай и его описать.
Достаточно вспомнить конкретный случай и его описать.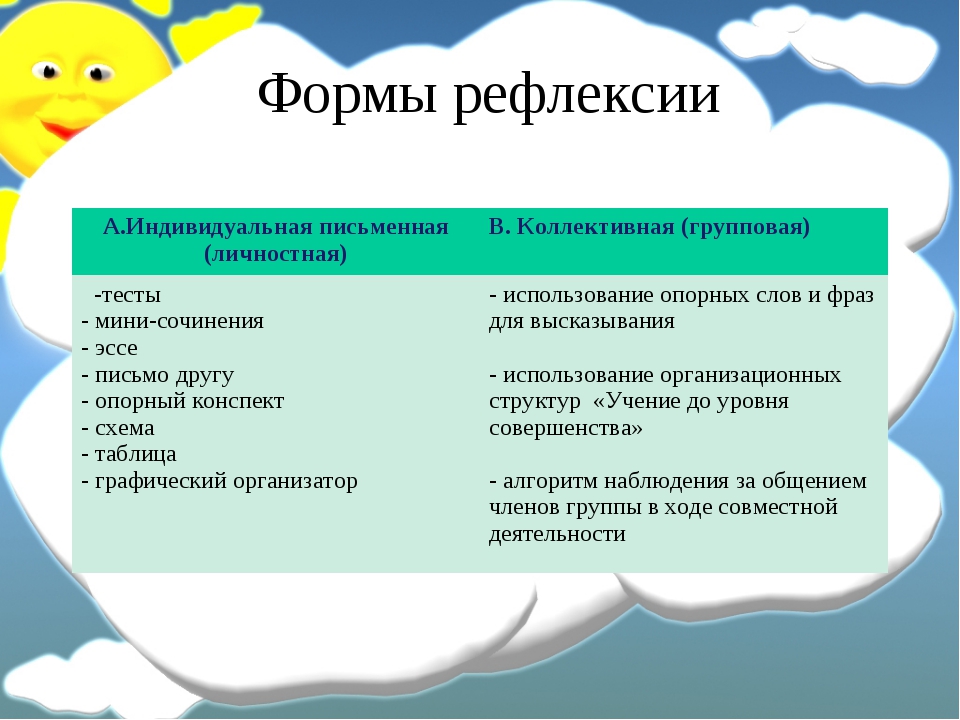 То есть применять к этому объекту все те способы, операции, действия, методы, которые мы имеем при исследовании объектов. Вот, вкратце, тот смысл, который был сделан [Фихте]. Следует отметить, что эта идея тоже присутствует тем или иным образом в нашем понимании рефлексии, поскольку мы считаем, что обязательно надо объективировать нечто для того, чтобы ей можно было потом отрефлексировать. Произвести рефлексию над тем, что выступает для нас как объект.
То есть применять к этому объекту все те способы, операции, действия, методы, которые мы имеем при исследовании объектов. Вот, вкратце, тот смысл, который был сделан [Фихте]. Следует отметить, что эта идея тоже присутствует тем или иным образом в нашем понимании рефлексии, поскольку мы считаем, что обязательно надо объективировать нечто для того, чтобы ей можно было потом отрефлексировать. Произвести рефлексию над тем, что выступает для нас как объект.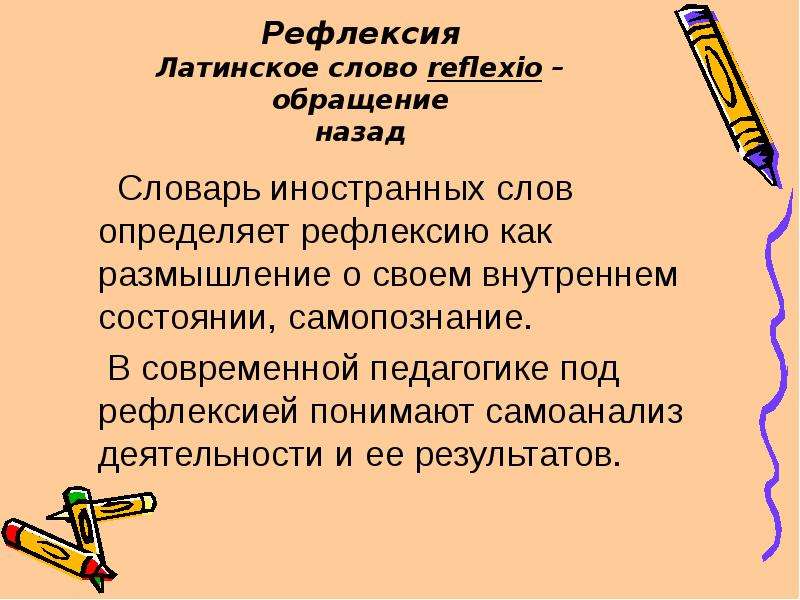 Мышление всегда есть некоторая конструктивная работа. Поэтому объективированная мысль (и в этом, считал Фихте, есть механизм рефлексии) и мы тем самым (объективированием) для себя делаем возможность посмотреть на собственное построение мысли, не просто на мысль, а именно на построение мысли.
Мышление всегда есть некоторая конструктивная работа. Поэтому объективированная мысль (и в этом, считал Фихте, есть механизм рефлексии) и мы тем самым (объективированием) для себя делаем возможность посмотреть на собственное построение мысли, не просто на мысль, а именно на построение мысли.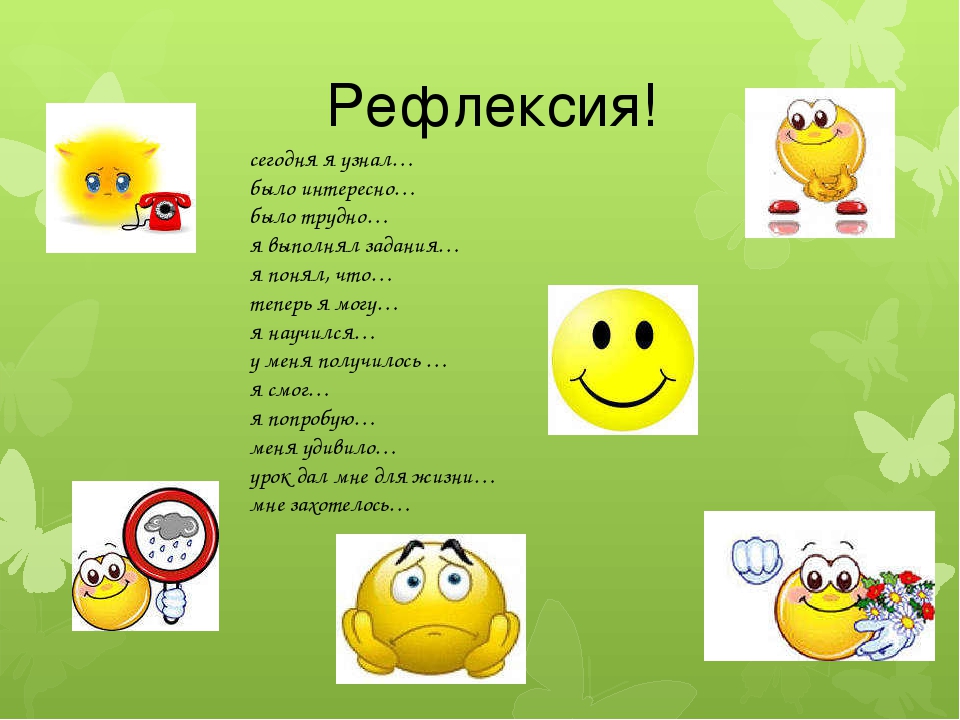 Он привязал рефлексию к некоторой задачной плоскости. Этим Гегель как бы выявил некоторые условия рефлексии и различил рефлексию формально-рассудочную и содержательную. И это было очень важно. С моей точки зрения, это было чрезвычайно существенным различением. Помните ли вы героя одного романа Горького, который, с точки зрения ранее приведённых характеристик, только и делал, что занимался рефлексированием — он всё время думал о том, как он создаёт что-то. Этот герой известен тем, что всё время отвечал на специфический вопрос, а был ли мальчик? Так вот, по Гегелю, такое самокопание можно условно назвать рефлексией и отнести её к формально-рассудочной рефлексии. Если вы заметили, то вся немецкая классика принимает исходное расчленение Локка, но борется с ним, стараясь придать рефлексии активный характер.
Он привязал рефлексию к некоторой задачной плоскости. Этим Гегель как бы выявил некоторые условия рефлексии и различил рефлексию формально-рассудочную и содержательную. И это было очень важно. С моей точки зрения, это было чрезвычайно существенным различением. Помните ли вы героя одного романа Горького, который, с точки зрения ранее приведённых характеристик, только и делал, что занимался рефлексированием — он всё время думал о том, как он создаёт что-то. Этот герой известен тем, что всё время отвечал на специфический вопрос, а был ли мальчик? Так вот, по Гегелю, такое самокопание можно условно назвать рефлексией и отнести её к формально-рассудочной рефлексии. Если вы заметили, то вся немецкая классика принимает исходное расчленение Локка, но борется с ним, стараясь придать рефлексии активный характер.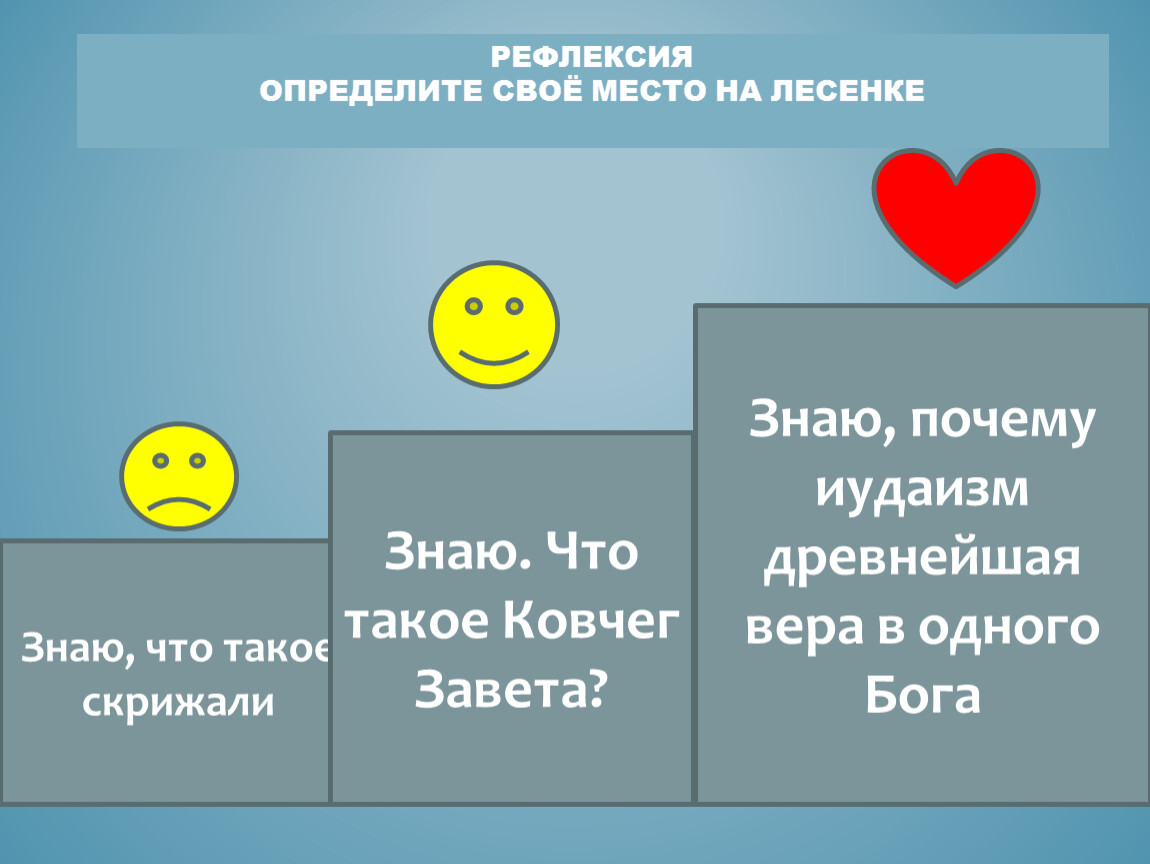 А из этого следует масса выводов. Например, зададимся простым вопросом: а была ли рефлексия у древних греков? Если мы хотим быть логически последовательными, надо ответить — нет. Рефлексии как особой организованности мышления не было как практики их мышления. Кстати, решали ли древние греки задачи? Была ли такая организованность мышления как задачи? Опять, следуя Марксу, нужно сказать — нет. В этом надо немножко разобраться и почувствовать, что нам даёт основу так говорить. Это легче и лучше почувствовать с противоположного конца. То есть ответить на вопрос, а почему мы считаем, что у греков была рефлексия? Почему мы считаем, что у греков была такая организованность мышления как решение задач? Почему мы считаем, что греки мыслили при помощи схемы, скажем, анализ, синтез, абстракция, обобщение?
А из этого следует масса выводов. Например, зададимся простым вопросом: а была ли рефлексия у древних греков? Если мы хотим быть логически последовательными, надо ответить — нет. Рефлексии как особой организованности мышления не было как практики их мышления. Кстати, решали ли древние греки задачи? Была ли такая организованность мышления как задачи? Опять, следуя Марксу, нужно сказать — нет. В этом надо немножко разобраться и почувствовать, что нам даёт основу так говорить. Это легче и лучше почувствовать с противоположного конца. То есть ответить на вопрос, а почему мы считаем, что у греков была рефлексия? Почему мы считаем, что у греков была такая организованность мышления как решение задач? Почему мы считаем, что греки мыслили при помощи схемы, скажем, анализ, синтез, абстракция, обобщение?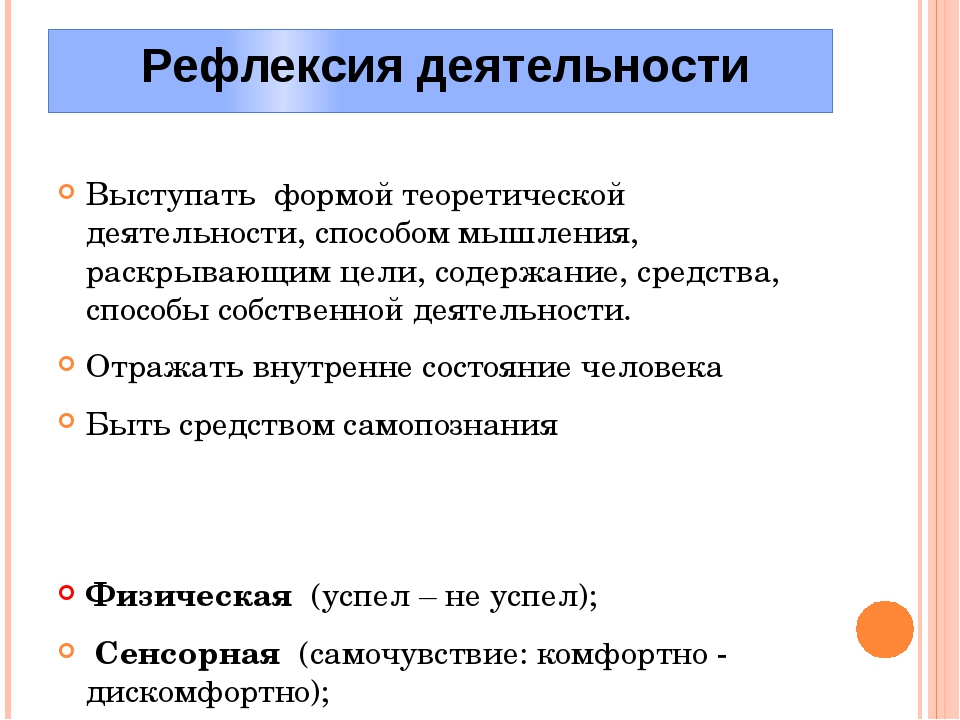 И Платон, и Аристотель. Мы считаем, что они мыслили лучше нас, нет, по крайней мере, так, как мы, и наверняка обладали такими же формами мысли, как у нас, поскольку были гениями. За счёт чего это возникает? Это очень важный и чрезвычайно существенный вопрос. Это исходит из общей идеи естественнонаучного подхода к мышлению, из представления о том, что мышление есть некая родовая, и в каком-то смысле неизменяющаяся особенность человека. Меняются лишь какие-то мелкие детали. И если мы можем видеть своё мышление только таким образом, то мы привносим своё видение в историю, и это для нас само собой разумеется. Другой ход, который я считаю, естественно, правильным, заключается в том, что некоторая организованность мышления использует все те элементы, которые были ранее, и то, что эти элементы были ранее, даёт нам возможность приписывать любую организованность мышления всей целостности.
И Платон, и Аристотель. Мы считаем, что они мыслили лучше нас, нет, по крайней мере, так, как мы, и наверняка обладали такими же формами мысли, как у нас, поскольку были гениями. За счёт чего это возникает? Это очень важный и чрезвычайно существенный вопрос. Это исходит из общей идеи естественнонаучного подхода к мышлению, из представления о том, что мышление есть некая родовая, и в каком-то смысле неизменяющаяся особенность человека. Меняются лишь какие-то мелкие детали. И если мы можем видеть своё мышление только таким образом, то мы привносим своё видение в историю, и это для нас само собой разумеется. Другой ход, который я считаю, естественно, правильным, заключается в том, что некоторая организованность мышления использует все те элементы, которые были ранее, и то, что эти элементы были ранее, даёт нам возможность приписывать любую организованность мышления всей целостности. И, скажем, такой организованности мышления как рефлексия, не было. Хотя те или иные элементы, конечно, присутствовали, и из них складывалась рефлексия, ведь она не из воздуха возникла. Но как целостность она ранее не существовала.
И, скажем, такой организованности мышления как рефлексия, не было. Хотя те или иные элементы, конечно, присутствовали, и из них складывалась рефлексия, ведь она не из воздуха возникла. Но как целостность она ранее не существовала.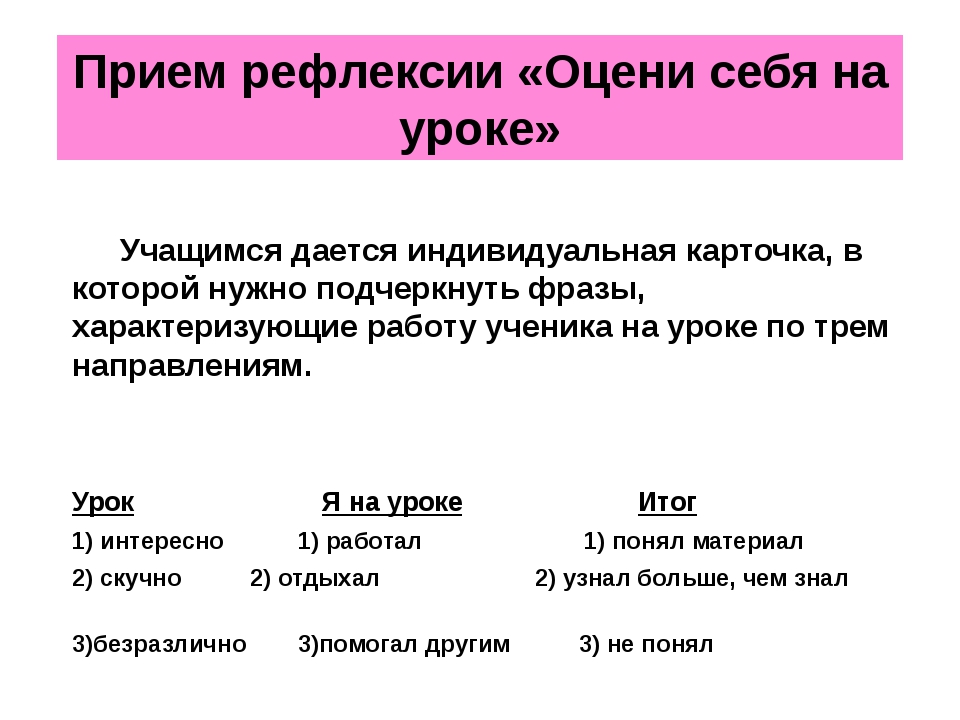
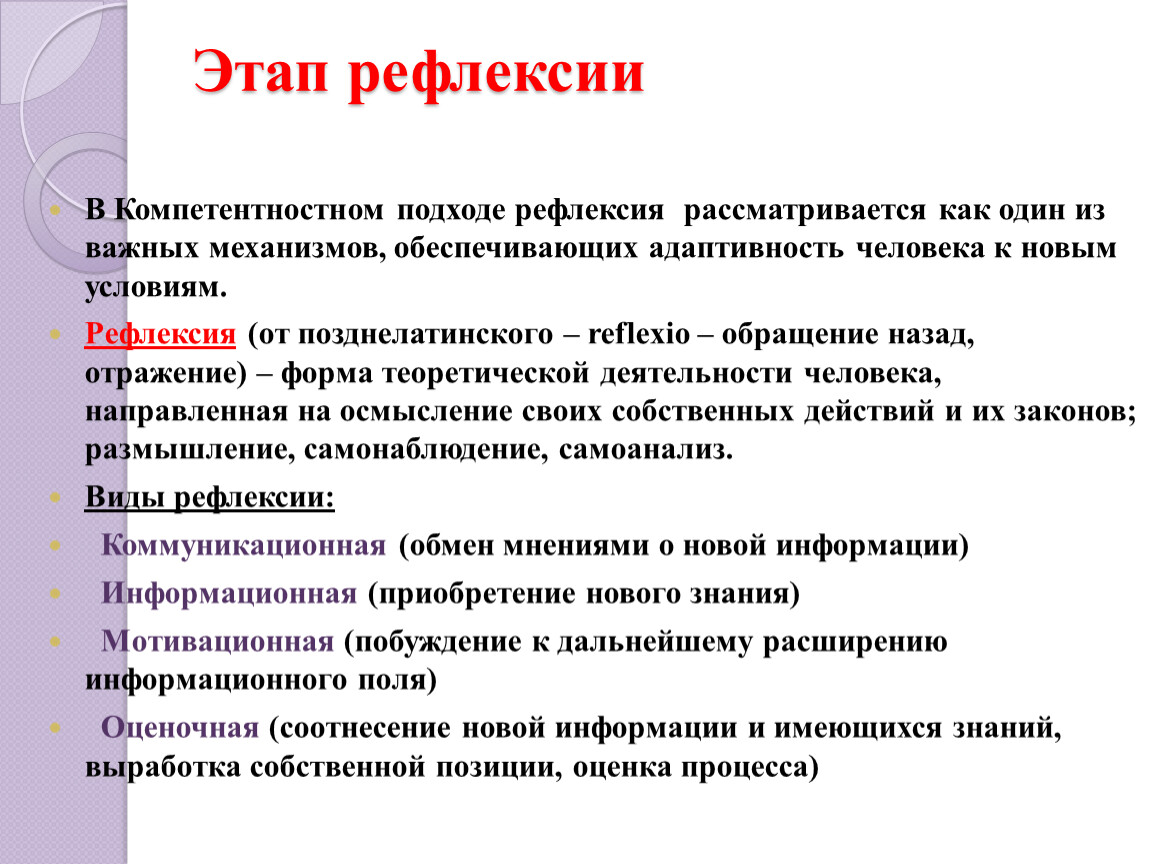 Ведь что образует эту историческую организованность мышления? (Я уже перехожу ко второй части моего выступления.)
Ведь что образует эту историческую организованность мышления? (Я уже перехожу ко второй части моего выступления.)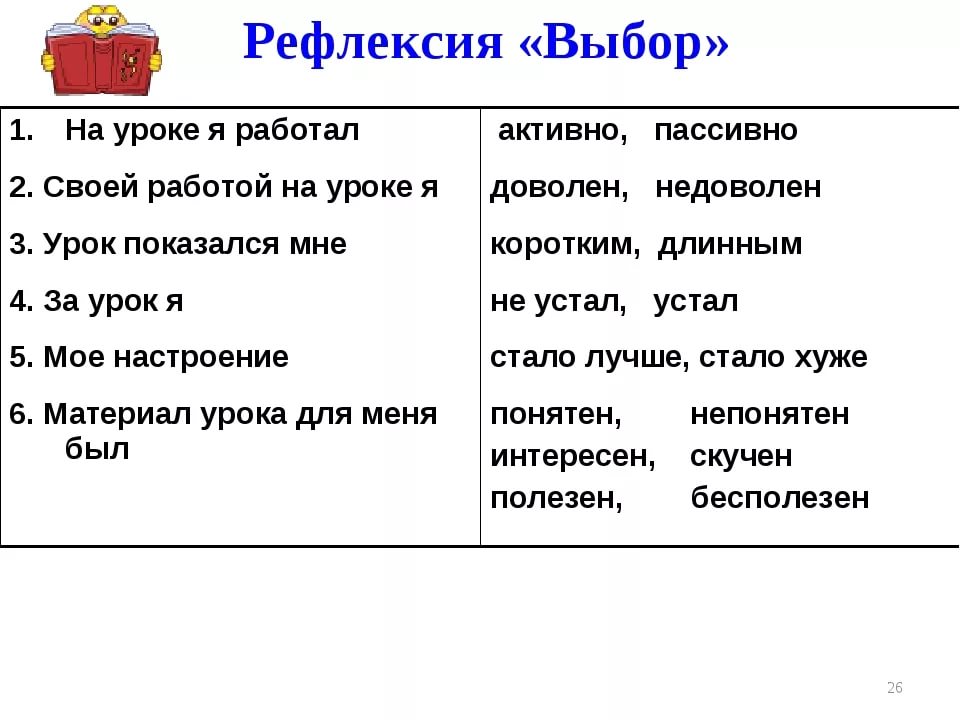 Появляются пресмыкающиеся, появляются млекопитающие (кстати, млекопитающие все элементы от пресмыкающихся взяли). То есть это некоторая форма, в которой происходит деятельность. Это форма, в которой мы мыслим. Вот, например, вам сейчас задают некую норму обсуждения докладов. Подумайте, существовала ли такая норма лет десятьпятнадцать назад? Нет. Где-то праэлементы её были, использовались. И Онегин, беседуя с Ленским, мог использовать её праэлементы, но это не было нормой работы. А представим себе, что эта норма работы будет настолько удачной, что все её будут использовать. Тогда мы будем говорить, что есть определённая организованность. Нормирующая деятельность.
Появляются пресмыкающиеся, появляются млекопитающие (кстати, млекопитающие все элементы от пресмыкающихся взяли). То есть это некоторая форма, в которой происходит деятельность. Это форма, в которой мы мыслим. Вот, например, вам сейчас задают некую норму обсуждения докладов. Подумайте, существовала ли такая норма лет десятьпятнадцать назад? Нет. Где-то праэлементы её были, использовались. И Онегин, беседуя с Ленским, мог использовать её праэлементы, но это не было нормой работы. А представим себе, что эта норма работы будет настолько удачной, что все её будут использовать. Тогда мы будем говорить, что есть определённая организованность. Нормирующая деятельность.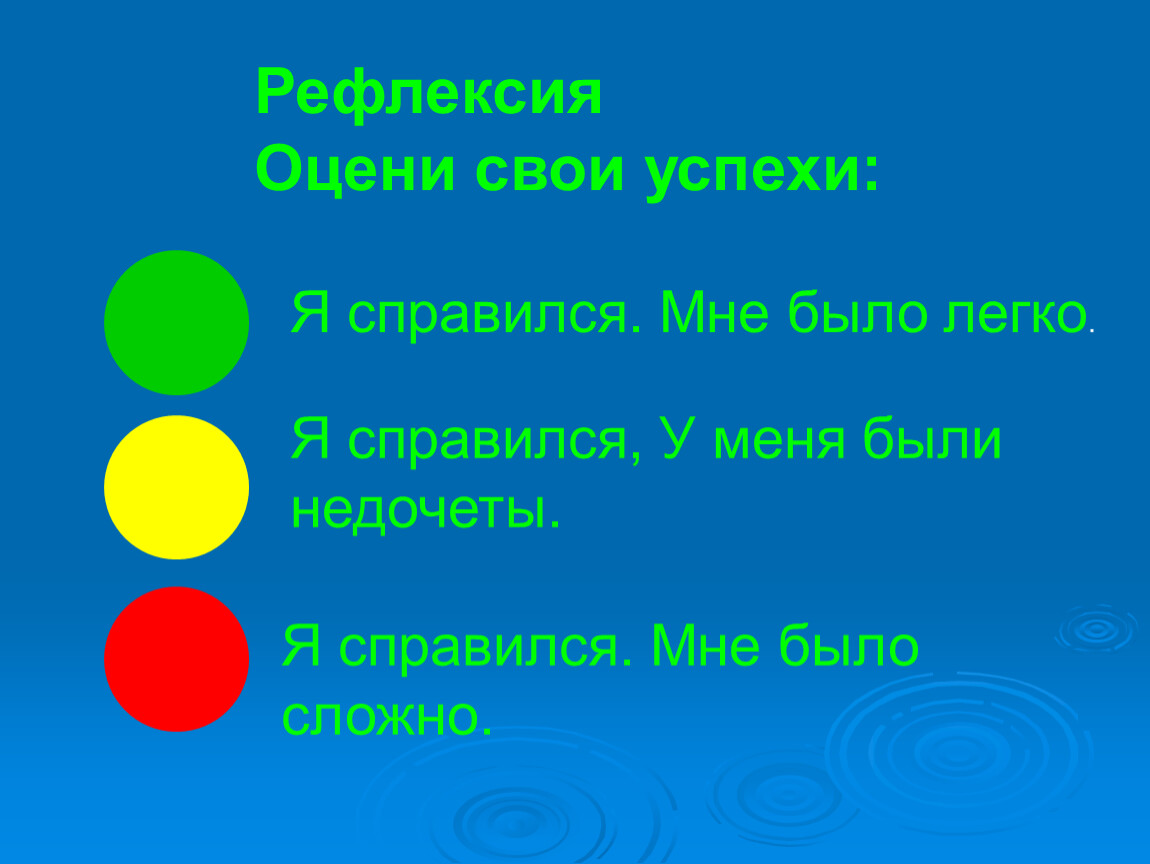
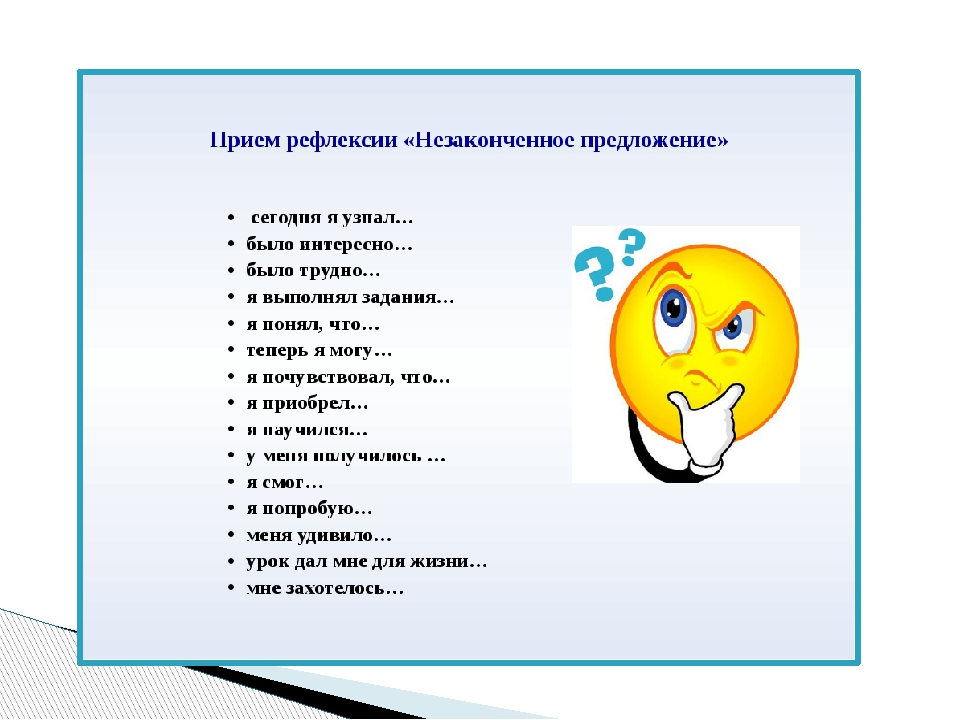 Хотя с идеями дело сложнее, но мне достаточно, что вы не увидите этого слова. Этого термина нет, он не существует и не только y нас.
Хотя с идеями дело сложнее, но мне достаточно, что вы не увидите этого слова. Этого термина нет, он не существует и не только y нас.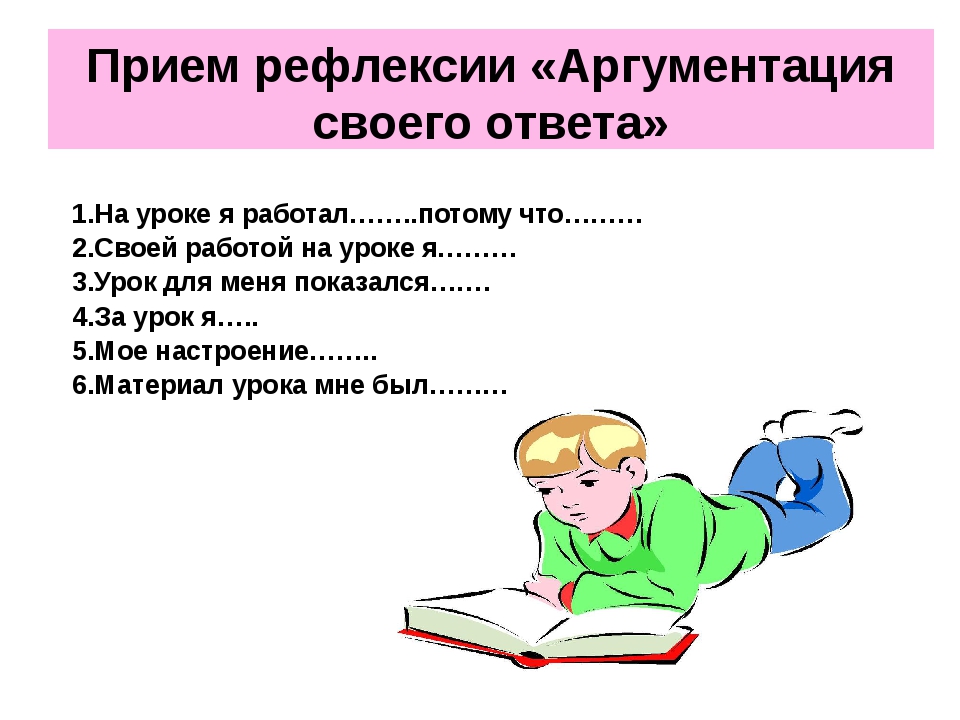 Вот какую вещь я должен решить, чтобы ответить на вопрос. Я должен выделить, соблюсти эти два условия, чтобы сказать, а как же возникла эта организованность? И здесь я буду отвечать на этот вопрос только в психологическом плане, хотя этого и недостаточно. Я проведу социокультурный анализ, но только с психологической точки зрения. То есть с точки зрения мышления и действия. Здесь можно выделить следующие два момента. Первое, резкое нарушение автономности действия и второе — быстрое изменение состава и характера осуществляемого действия. Это есть условие к мыслительному действию.
Вот какую вещь я должен решить, чтобы ответить на вопрос. Я должен выделить, соблюсти эти два условия, чтобы сказать, а как же возникла эта организованность? И здесь я буду отвечать на этот вопрос только в психологическом плане, хотя этого и недостаточно. Я проведу социокультурный анализ, но только с психологической точки зрения. То есть с точки зрения мышления и действия. Здесь можно выделить следующие два момента. Первое, резкое нарушение автономности действия и второе — быстрое изменение состава и характера осуществляемого действия. Это есть условие к мыслительному действию.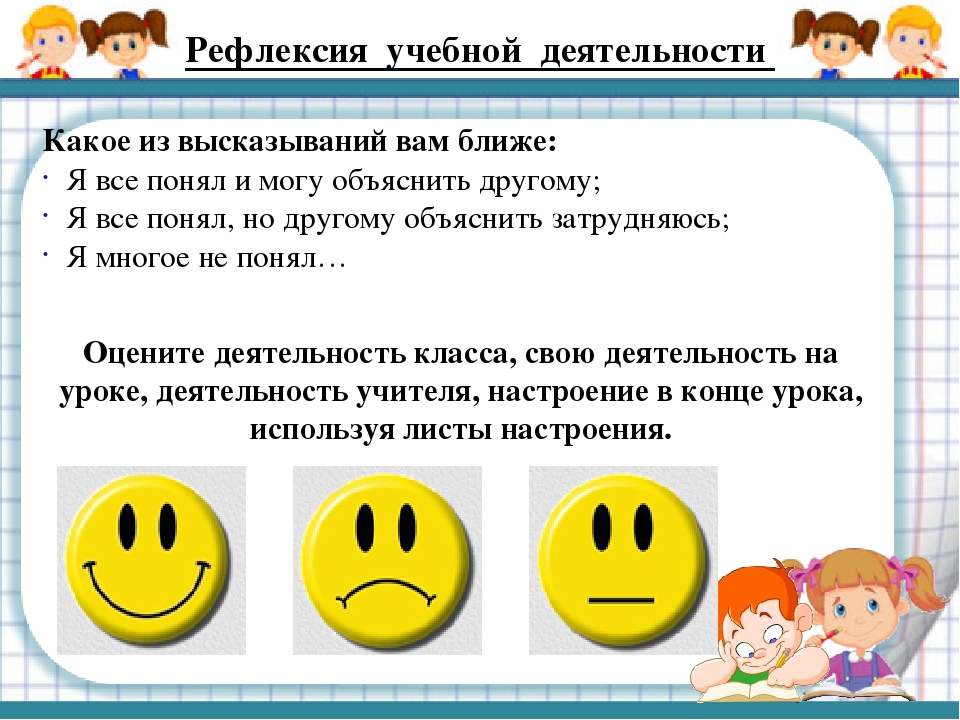 И эти два условия для нас становятся очевидными, то есть это те условия, в которых мы живём. Раньше состав и характер профессиональной деятельности был автономен, подолгу не менялся. А вот теперь я задам просто вопрос. Случайно ли понятие рефлексия появилось в Европе тогда, когда европейская культура столкнулась с другими? Подумайте над этим!
И эти два условия для нас становятся очевидными, то есть это те условия, в которых мы живём. Раньше состав и характер профессиональной деятельности был автономен, подолгу не менялся. А вот теперь я задам просто вопрос. Случайно ли понятие рефлексия появилось в Европе тогда, когда европейская культура столкнулась с другими? Подумайте над этим!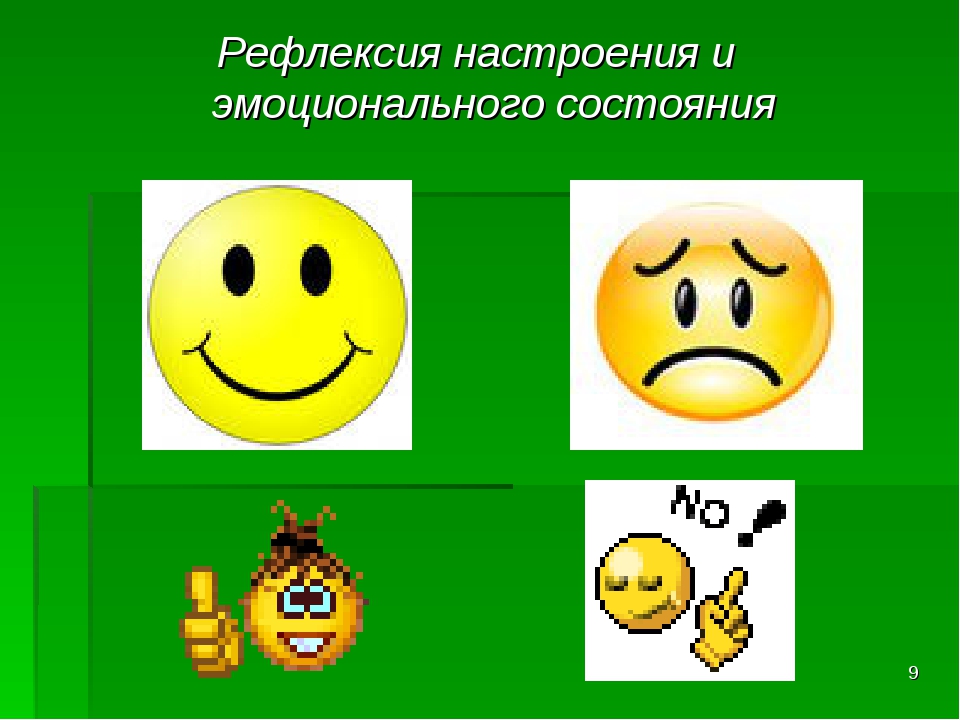 Вот это первый крупный сдвиг, который произошёл в развитии философской и психологической трактовке рефлексии.
Вот это первый крупный сдвиг, который произошёл в развитии философской и психологической трактовке рефлексии.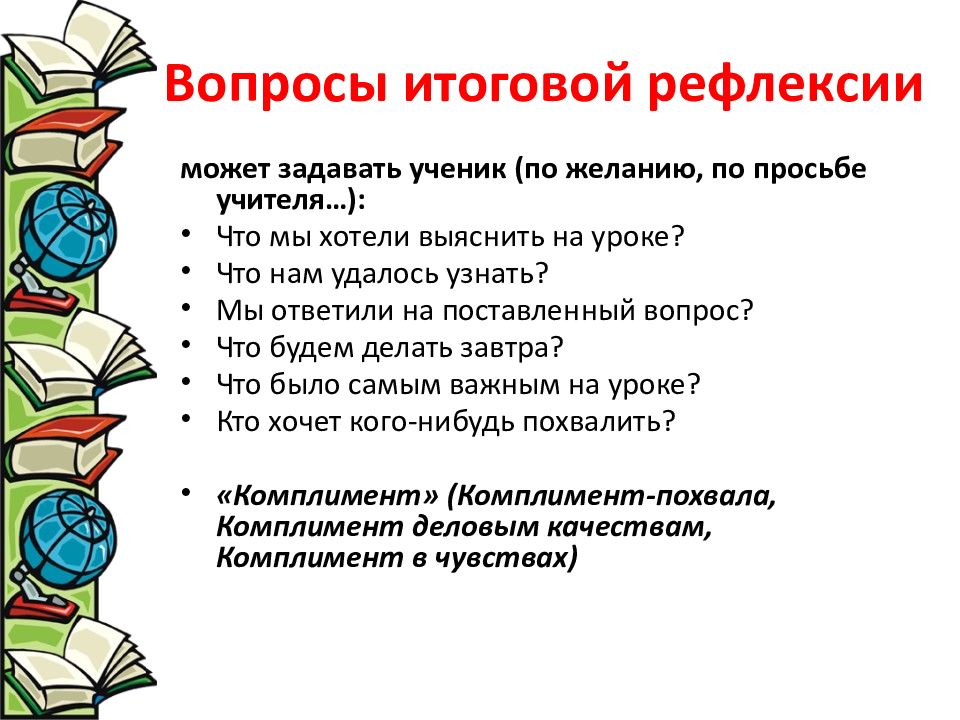 То есть мы должны установить отношения между нашим действием А, действием В и действием С. Вот пример из вашей ситуации: понимающий, делая работу в своей позиции, должен предвидеть работу критика, и это отношение может быть самое разное, важно даже то, что сами позиции понимающего и критика просто различаются, что они выделены и поставлены в последовательный ряд и между ними установлены отношения.
То есть мы должны установить отношения между нашим действием А, действием В и действием С. Вот пример из вашей ситуации: понимающий, делая работу в своей позиции, должен предвидеть работу критика, и это отношение может быть самое разное, важно даже то, что сами позиции понимающего и критика просто различаются, что они выделены и поставлены в последовательный ряд и между ними установлены отношения.
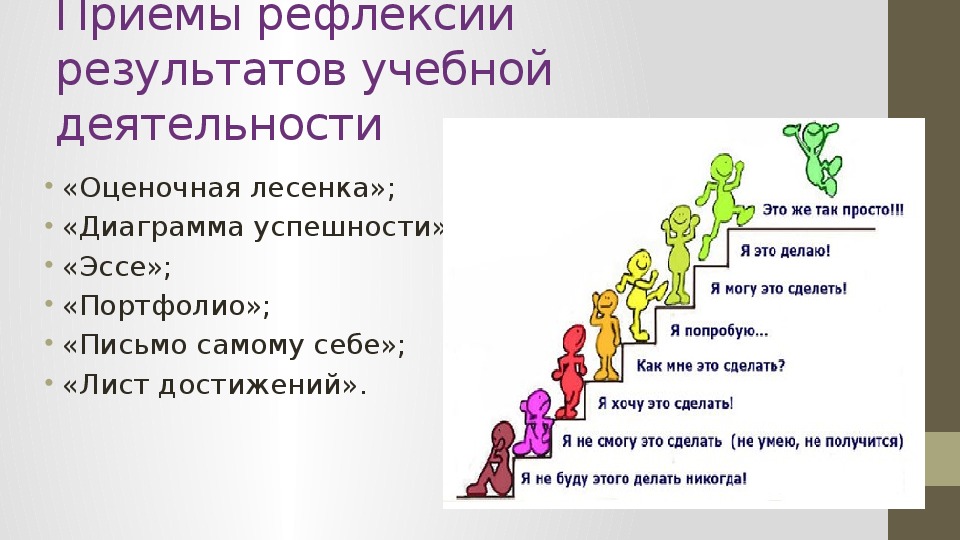 Поэтому я настаиваю, где есть необходимость именно на таком понимании рефлексии. Эта базовая способность, которой раньше не было. Какие-то праэлементы были, конечно, но они не были как массовая, как общественная необходимая способность, которой должны овладеть всё, чтобы адекватно жить в этом мире. Способность, которая пронизывает всё наше бытие. Ранее общей такой способности не было. На этом я закончу второй кусок своего выступления.
Поэтому я настаиваю, где есть необходимость именно на таком понимании рефлексии. Эта базовая способность, которой раньше не было. Какие-то праэлементы были, конечно, но они не были как массовая, как общественная необходимая способность, которой должны овладеть всё, чтобы адекватно жить в этом мире. Способность, которая пронизывает всё наше бытие. Ранее общей такой способности не было. На этом я закончу второй кусок своего выступления. И вот между этими нормами устанавливаются отношения.
И вот между этими нормами устанавливаются отношения.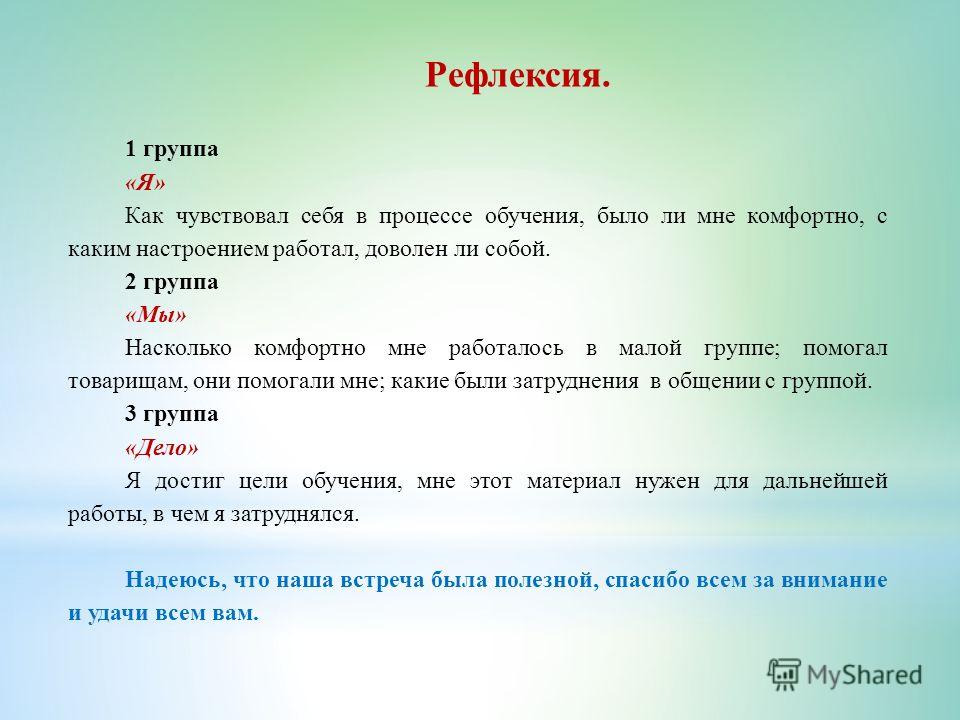 Почему? Да потому, что если отношение уже есть, то какая может быть вообще рефлексия? Я просто применяю некоторый штамп. Поэтому очень важна роль именно этого установления. И что устанавливается — тоже очень важно. Теперь я подчёркиваю второе слово — отношение. Потому что только через это отношение между своим и чужим действием я могу реализовать собственные действия адекватно и правильно. Это последнее замечание по второму кусочку. Резюме: в психологии происходит изменение подхода к рефлексии. Она начинает пониматься как способность. Эту способность можно понимать и трактовать как способность к установлению отношений. На этом я заканчиваю этот кусок общепсихологических рассуждений. Этот кусок, на мой взгляд, очень эвристичен в том, что даёт богатые возможности для создания чисто конкретных методик действия. О некоторых из них я расскажу позже.
Почему? Да потому, что если отношение уже есть, то какая может быть вообще рефлексия? Я просто применяю некоторый штамп. Поэтому очень важна роль именно этого установления. И что устанавливается — тоже очень важно. Теперь я подчёркиваю второе слово — отношение. Потому что только через это отношение между своим и чужим действием я могу реализовать собственные действия адекватно и правильно. Это последнее замечание по второму кусочку. Резюме: в психологии происходит изменение подхода к рефлексии. Она начинает пониматься как способность. Эту способность можно понимать и трактовать как способность к установлению отношений. На этом я заканчиваю этот кусок общепсихологических рассуждений. Этот кусок, на мой взгляд, очень эвристичен в том, что даёт богатые возможности для создания чисто конкретных методик действия. О некоторых из них я расскажу позже. Я пытался показать, что вся немецкая классика, которая очень много сделала относительно рефлексии, напала на понимание рефлексии как отражения. Она не могла свести к механистическому пониманию отражения, она стремилась показать активность рефлексии. Вот так намёком я и могу ответить на ваш вопрос, а показать, как действительно связана рефлексия с отражением я просто не знаю.
Я пытался показать, что вся немецкая классика, которая очень много сделала относительно рефлексии, напала на понимание рефлексии как отражения. Она не могла свести к механистическому пониманию отражения, она стремилась показать активность рефлексии. Вот так намёком я и могу ответить на ваш вопрос, а показать, как действительно связана рефлексия с отражением я просто не знаю.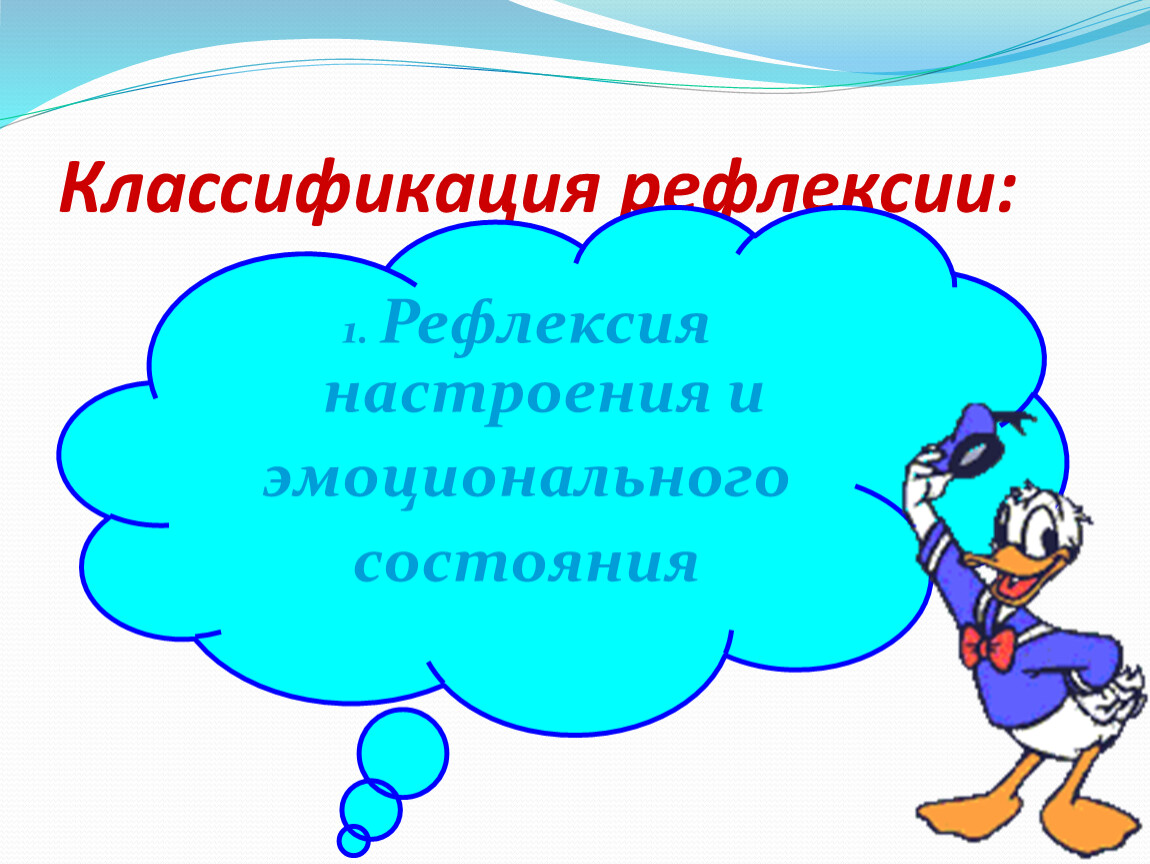 Я не хочу вдаваться в философскую дискуссию, что такое отражение. Для меня этот вопрос находится где-то в стороне.
Я не хочу вдаваться в философскую дискуссию, что такое отражение. Для меня этот вопрос находится где-то в стороне.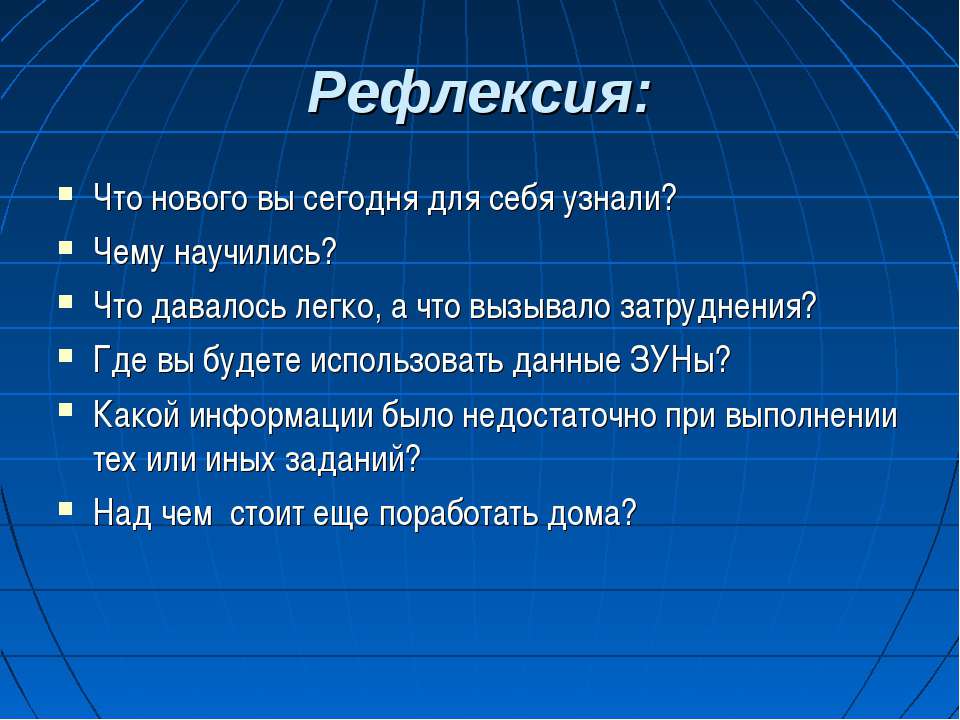 Мы в этих способностях всегда выделяем некоторые общие для любой возможной практической направленности элементы, которые мы называем общими способностями. Причём, заметьте — язык нас никогда не обманывает, что такое способность, вдумайтесь в это слово — это владение способом, ничего больше. Кстати, этимологические рассуждения часто очень многое дают. Язык, слово, когда прошло через тысячелетия и не изменилось, оставило своё содержание, то это значит, что оно всеми схватывает понимание, оно выражает настолько сильный смысл, что мы ему противостоять не можем, оно принудительно нас обязывает себя выполнять.
Мы в этих способностях всегда выделяем некоторые общие для любой возможной практической направленности элементы, которые мы называем общими способностями. Причём, заметьте — язык нас никогда не обманывает, что такое способность, вдумайтесь в это слово — это владение способом, ничего больше. Кстати, этимологические рассуждения часто очень многое дают. Язык, слово, когда прошло через тысячелетия и не изменилось, оставило своё содержание, то это значит, что оно всеми схватывает понимание, оно выражает настолько сильный смысл, что мы ему противостоять не можем, оно принудительно нас обязывает себя выполнять.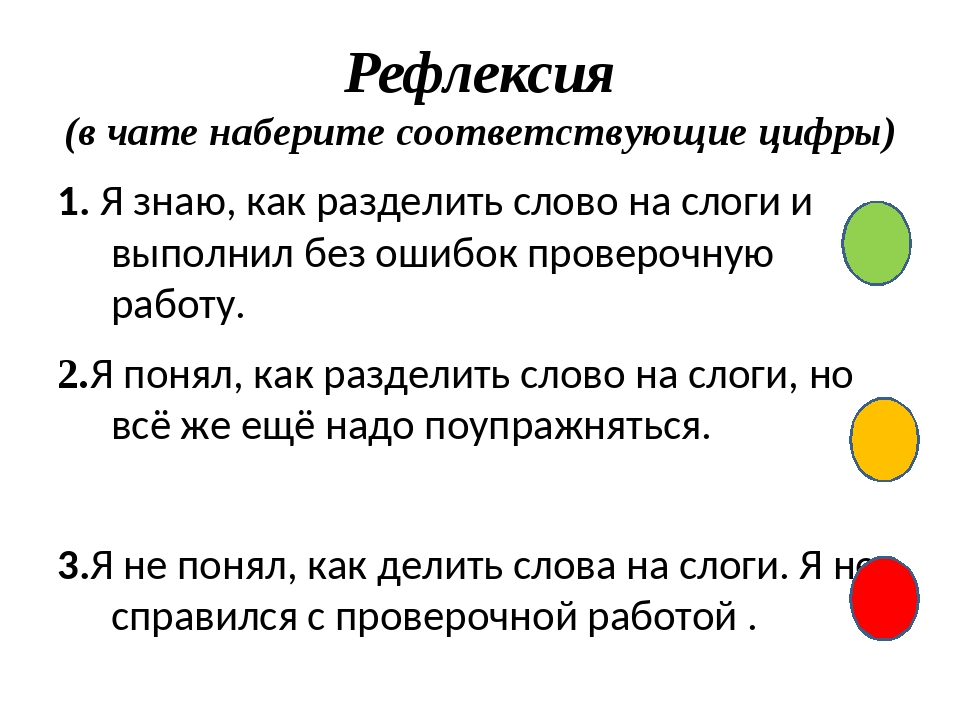 На что? Новый тип организации не может возникнуть, если нет какой-то особой направленности, зачем нужна новая организация мышления, если у меня старая направленность? Новый тип организации предполагает новые вводимые элементы. Что такое организация? Это связь между элементами, управление, распределение между элементами и так далее. Здесь есть эти новые элементы или новые типы организации, в данном смысле. В чём они состоят? Вот, например, в химии, возьмите три элемента и по-разному устройте между ними структуру связи, и вы получите два совершенно не похожих вещества, будем иметь с одной стороны уголь, а с другой — алмаз. А химический состав их однороден. Так вот, в рефлексии на первый план (почему я говорю, что это содержательные характеристики) отношения между чем-то ранее неизвестным становятся центрирующими в этой новой организации мышления.
На что? Новый тип организации не может возникнуть, если нет какой-то особой направленности, зачем нужна новая организация мышления, если у меня старая направленность? Новый тип организации предполагает новые вводимые элементы. Что такое организация? Это связь между элементами, управление, распределение между элементами и так далее. Здесь есть эти новые элементы или новые типы организации, в данном смысле. В чём они состоят? Вот, например, в химии, возьмите три элемента и по-разному устройте между ними структуру связи, и вы получите два совершенно не похожих вещества, будем иметь с одной стороны уголь, а с другой — алмаз. А химический состав их однороден. Так вот, в рефлексии на первый план (почему я говорю, что это содержательные характеристики) отношения между чем-то ранее неизвестным становятся центрирующими в этой новой организации мышления.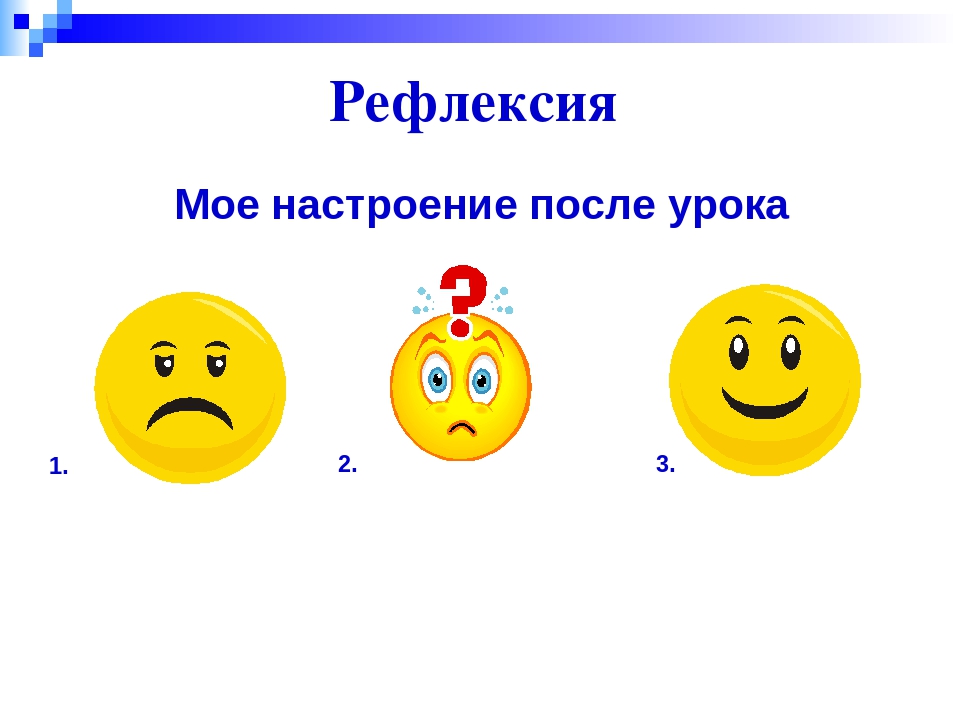 Понимаете, в моей практической деятельности как психолога этого не нужно. Я, наверное, сказал ужасную вещь с точки зрения преподавания психологии, но я сейчас отчётливо для себя понял, что я не понимаю, что такое психические процессы. Почему не понимаю? Да потому, что не работаю с этим понятием.
Понимаете, в моей практической деятельности как психолога этого не нужно. Я, наверное, сказал ужасную вещь с точки зрения преподавания психологии, но я сейчас отчётливо для себя понял, что я не понимаю, что такое психические процессы. Почему не понимаю? Да потому, что не работаю с этим понятием.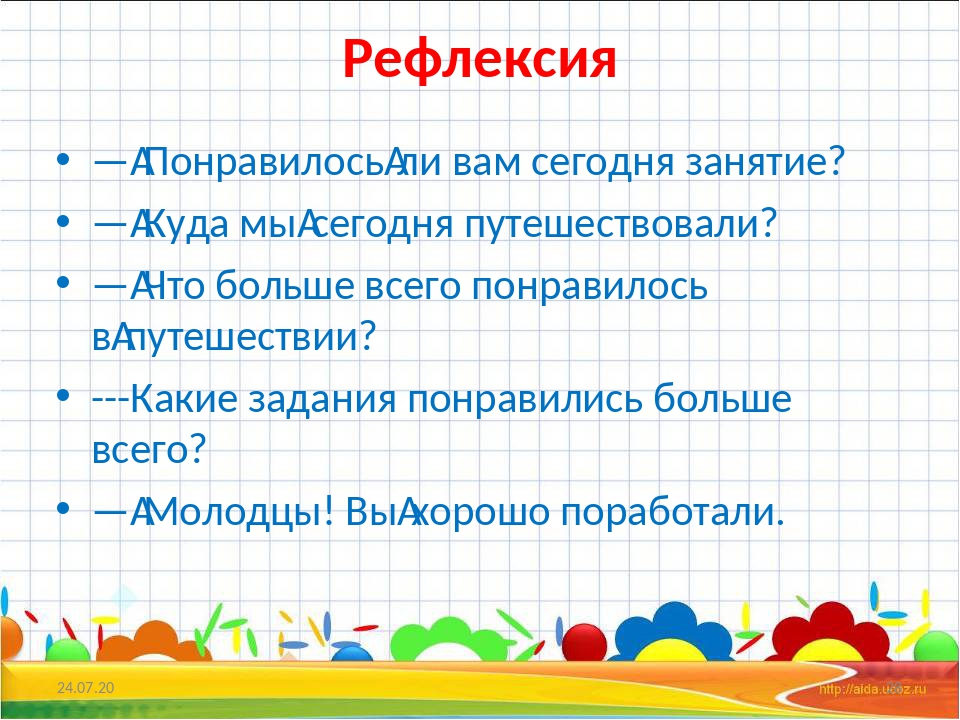

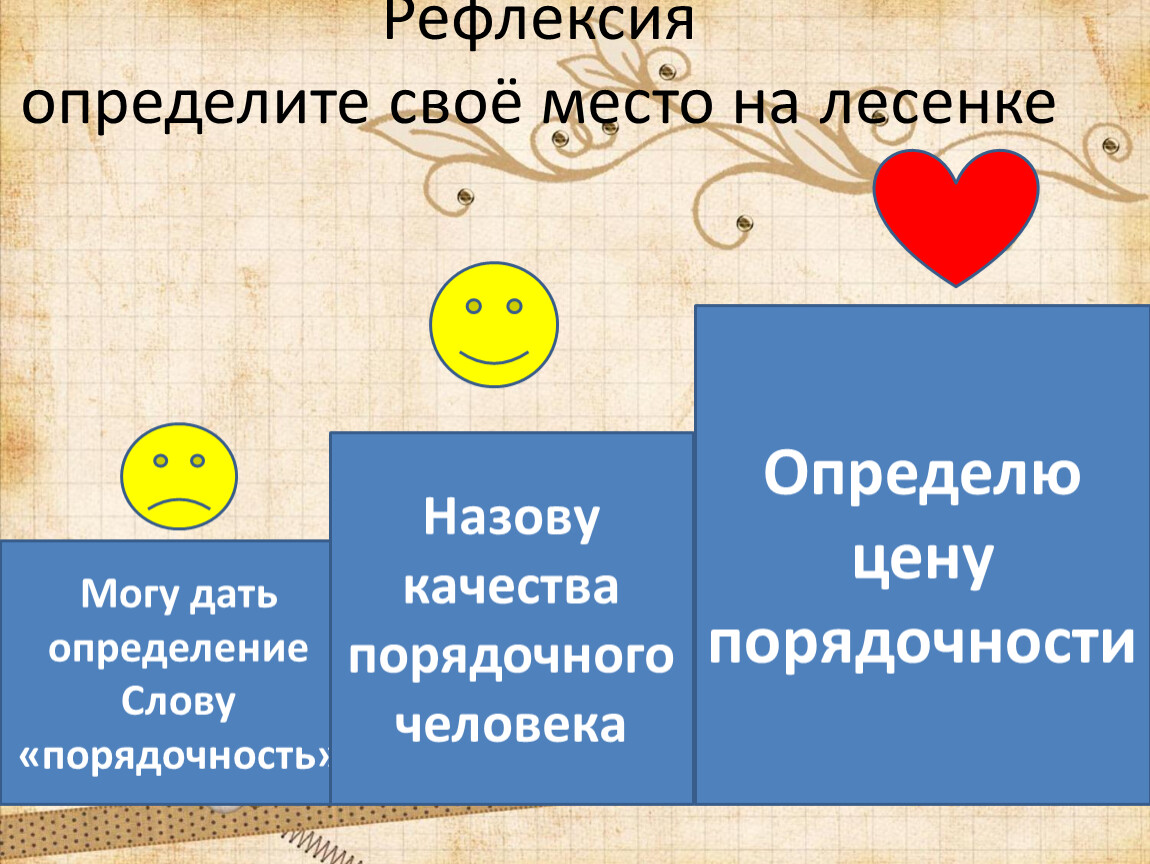 И я говорю совершенно чётко — это терминологический вопрос, можно все это хозяйство вообще не называть рефлексией.
И я говорю совершенно чётко — это терминологический вопрос, можно все это хозяйство вообще не называть рефлексией.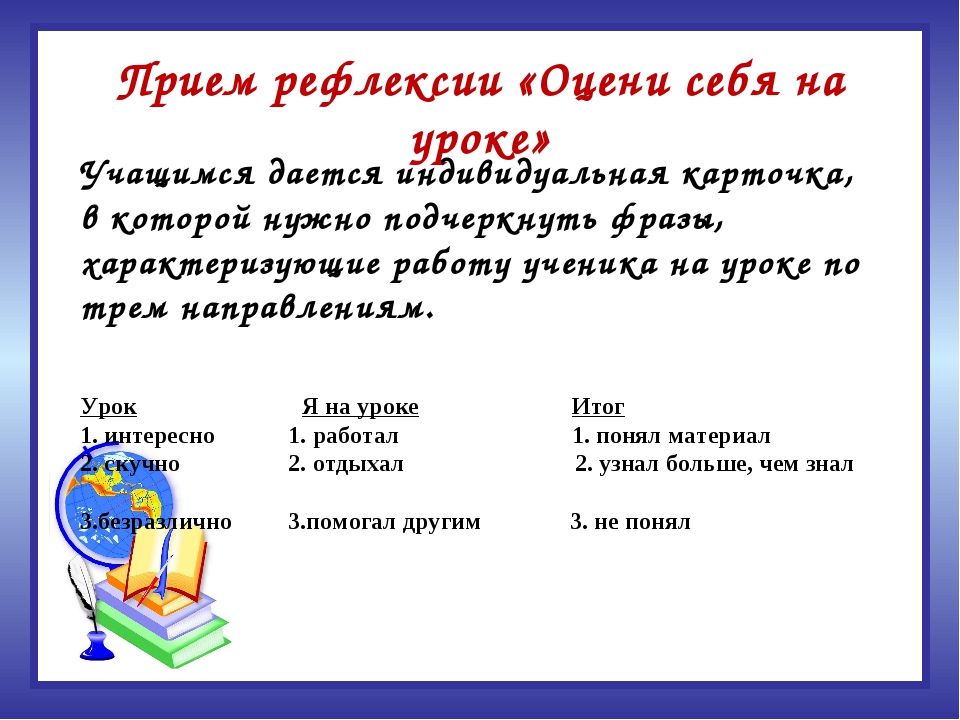 Вот когда мы будем смотреть конкретные вещи, связанные с рефлексией, вы увидите, как старые философские идеи там присутствуют. Сейчас я перейду к совершенно конкретной части моего выступления. Здесь я остановлюсь на двух моментах. Первое — это условие возникновения или постановки рефлексивной задачи, и второе — механизм, точнее один из механизмов решения этой рефлексивной задачи. Нам необходимо найти удобные и простые критерии, по которым мы можем судить, что мысль перешла в рефлексию, вот в эту организованность. Это критерии чисто эмпирические, теоретической схемы у меня никакой нет, и делал я это по наитию. Я выделил таких четыре критерия.
Вот когда мы будем смотреть конкретные вещи, связанные с рефлексией, вы увидите, как старые философские идеи там присутствуют. Сейчас я перейду к совершенно конкретной части моего выступления. Здесь я остановлюсь на двух моментах. Первое — это условие возникновения или постановки рефлексивной задачи, и второе — механизм, точнее один из механизмов решения этой рефлексивной задачи. Нам необходимо найти удобные и простые критерии, по которым мы можем судить, что мысль перешла в рефлексию, вот в эту организованность. Это критерии чисто эмпирические, теоретической схемы у меня никакой нет, и делал я это по наитию. Я выделил таких четыре критерия.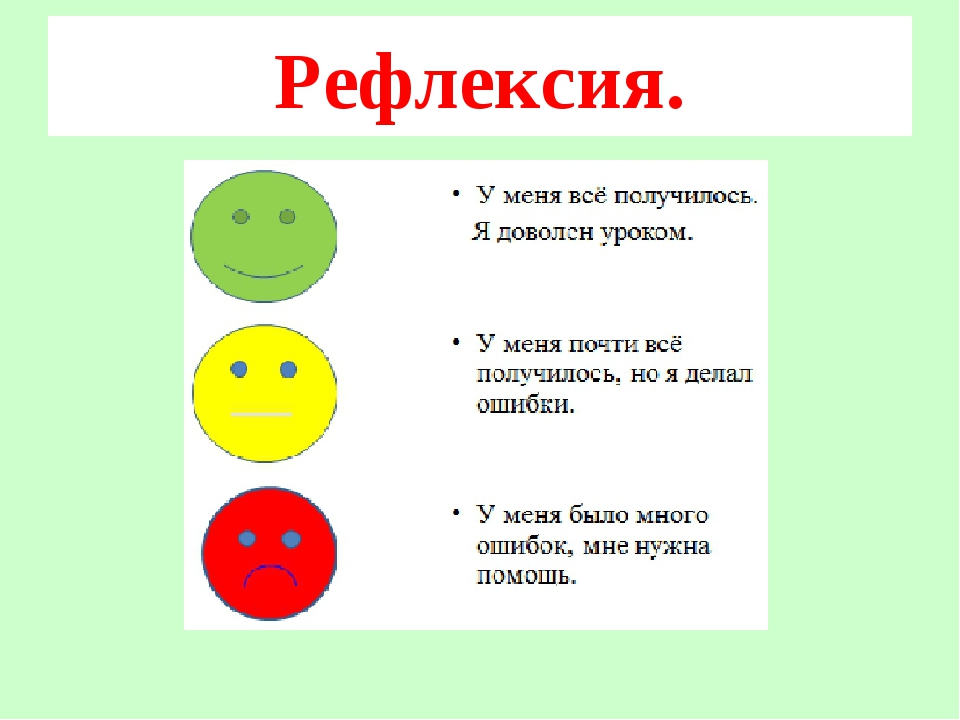 Если оно не остановлено, то вы занимаетесь, собственно, этим действием. И произвольная остановка действия имеет, что очень важно, активный характер. И эта остановка наступает тогда, когда в деятельности что-то не срабатывает. Этот момент чувствуется, действие дальше продолжать не следует. Причиной может быть и безрезультативность действия.
Если оно не остановлено, то вы занимаетесь, собственно, этим действием. И произвольная остановка действия имеет, что очень важно, активный характер. И эта остановка наступает тогда, когда в деятельности что-то не срабатывает. Этот момент чувствуется, действие дальше продолжать не следует. Причиной может быть и безрезультативность действия.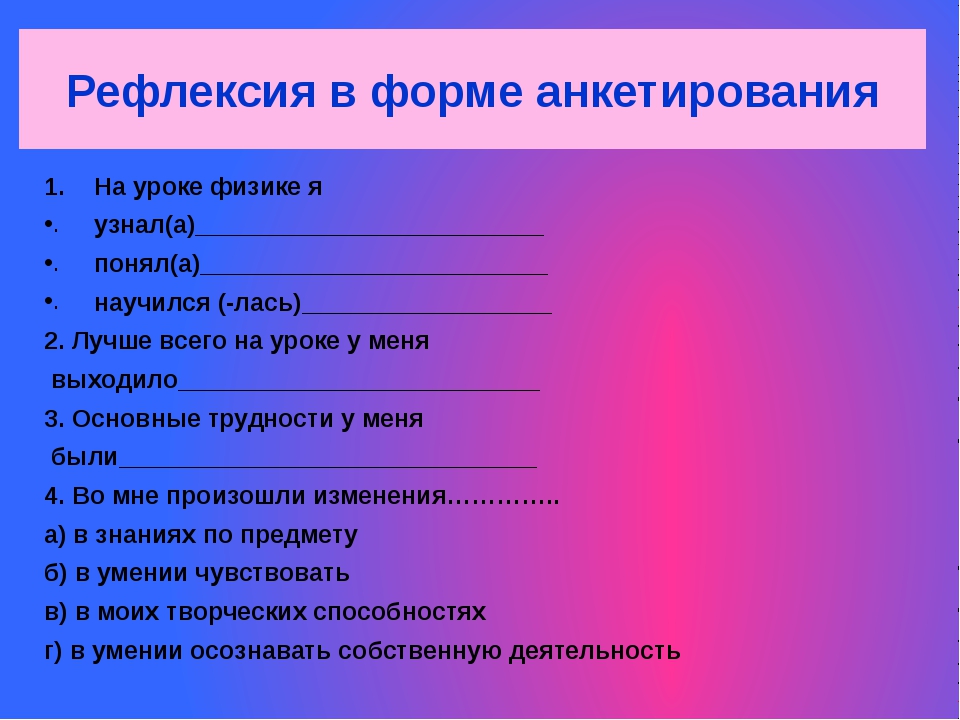 Мне кажется, было бы чрезвычайно интересно провести психологическое исследование на эмпирическом материале, посвящённое изучению того, как осуществляется остановка действия.
Мне кажется, было бы чрезвычайно интересно провести психологическое исследование на эмпирическом материале, посвящённое изучению того, как осуществляется остановка действия.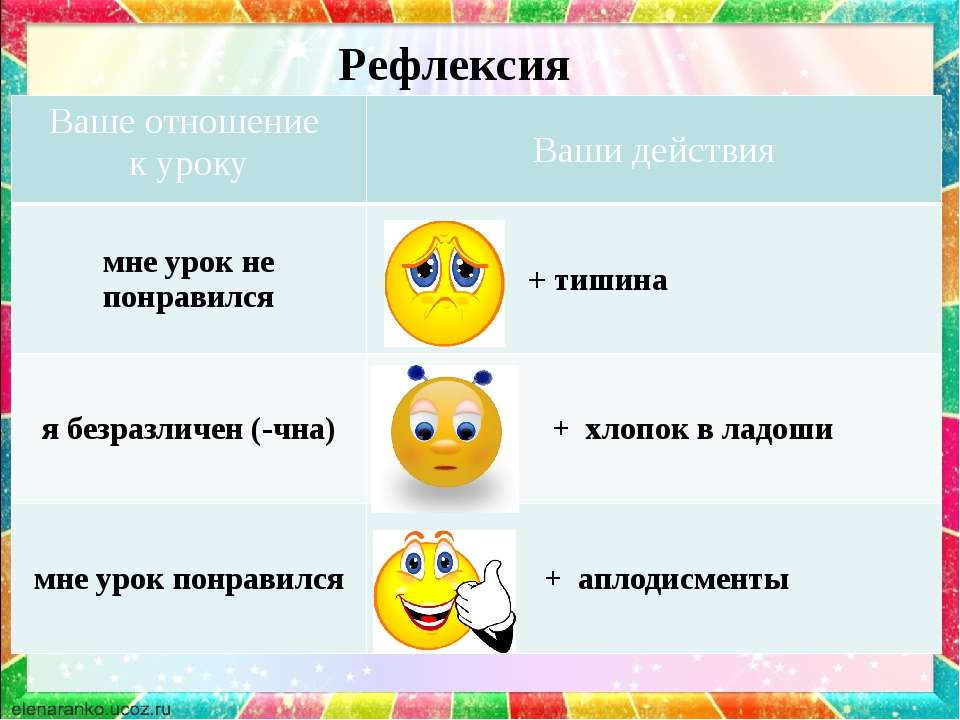
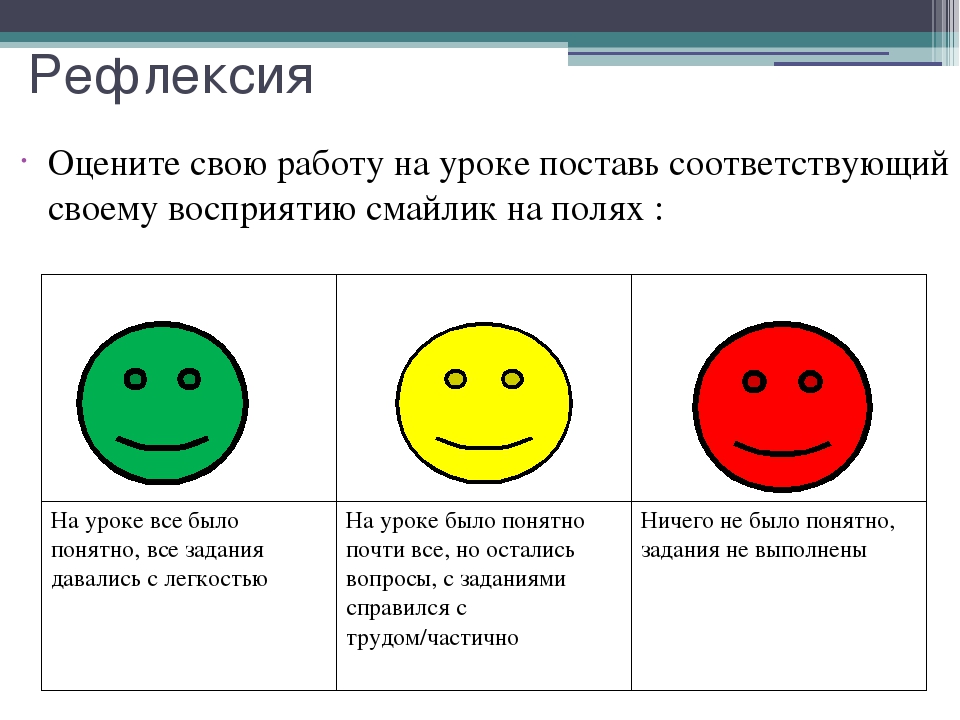 Мы фиксируем действие, прибегая к его содержательной характеристике. Делал то, сделал это и так далее. Когда же я объективирую своё действие, то я делаю действие объектом своего рассмотрения. Я провожу очень существенный для понимания момент — я, во-первых, описываю содержательно своё действие, но при этом я даже в речи это фиксированно выделяю — главное следствие, порядок действия, второстепенное и так далее. Ведь за этими словами, по сути дела, стоит некая методологическая схема, использованная для описания деятельности. Само это конкретное описание совершенного действия организуется при помощи этой методолого-методической схемы. И в каждом конкретном случае мы можем реконструировать эту схему, представив это действие как объекта. И ещё очень характерный момент для объективации действий. Объект всегда выступает как некое целое. Поэтому в фиксации мы можем фиксировать какой-то момент того, что мы сделали — конец действия, начало действия, вообще какой-либо важный для нас элемент, то совершая действие по объективации, само действие представляется как некое целое, отличное от других возможных целых.
Мы фиксируем действие, прибегая к его содержательной характеристике. Делал то, сделал это и так далее. Когда же я объективирую своё действие, то я делаю действие объектом своего рассмотрения. Я провожу очень существенный для понимания момент — я, во-первых, описываю содержательно своё действие, но при этом я даже в речи это фиксированно выделяю — главное следствие, порядок действия, второстепенное и так далее. Ведь за этими словами, по сути дела, стоит некая методологическая схема, использованная для описания деятельности. Само это конкретное описание совершенного действия организуется при помощи этой методолого-методической схемы. И в каждом конкретном случае мы можем реконструировать эту схему, представив это действие как объекта. И ещё очень характерный момент для объективации действий. Объект всегда выступает как некое целое. Поэтому в фиксации мы можем фиксировать какой-то момент того, что мы сделали — конец действия, начало действия, вообще какой-либо важный для нас элемент, то совершая действие по объективации, само действие представляется как некое целое, отличное от других возможных целых.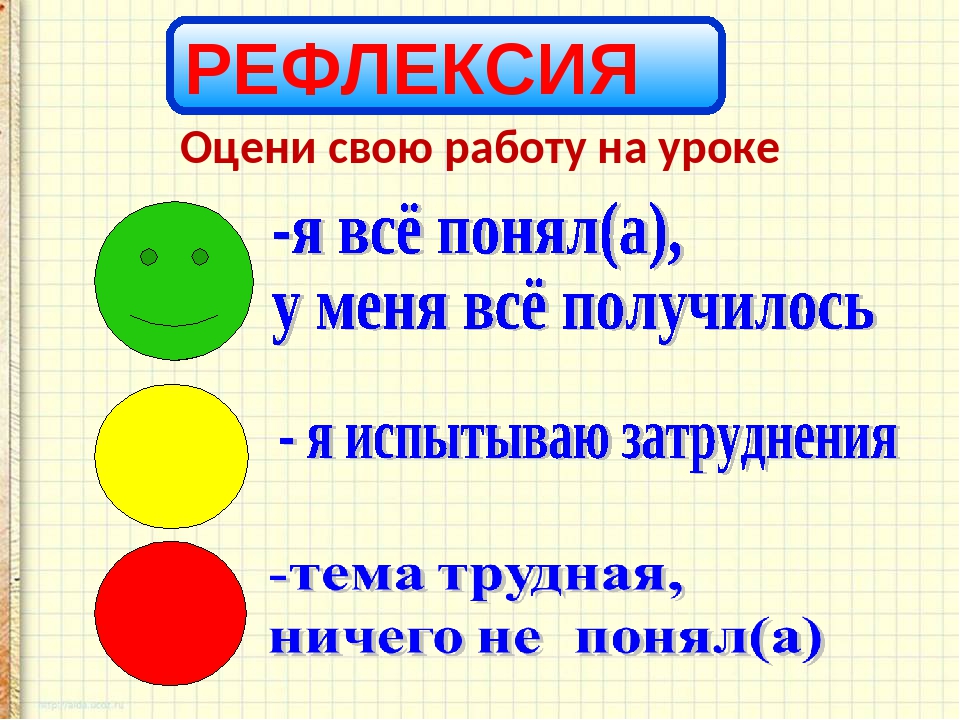 Ясно, что само действие объективации, опирающееся на какие-то схемы, не принадлежит к рассматриваемому схематизму, а направлено на него, на его выяснение. Если связать это с первой частью моего выступления, то объективацию мы фактически можем видеть в работах Фихте, о которых я немного говорил ранее.
Ясно, что само действие объективации, опирающееся на какие-то схемы, не принадлежит к рассматриваемому схематизму, а направлено на него, на его выяснение. Если связать это с первой частью моего выступления, то объективацию мы фактически можем видеть в работах Фихте, о которых я немного говорил ранее.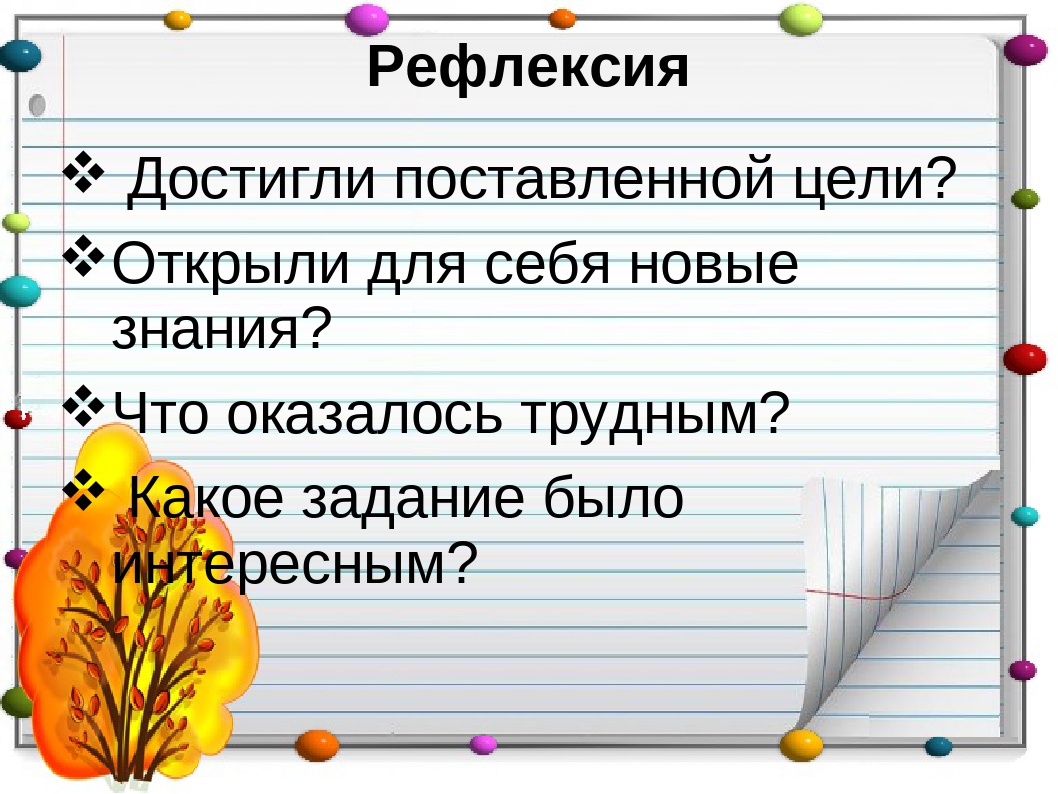 Это психологический личностный момент, и это момент необходимый. И, что очень важно, он лишает нас возможности адекватно, правильно сопоставить и чужое действие.
Это психологический личностный момент, и это момент необходимый. И, что очень важно, он лишает нас возможности адекватно, правильно сопоставить и чужое действие.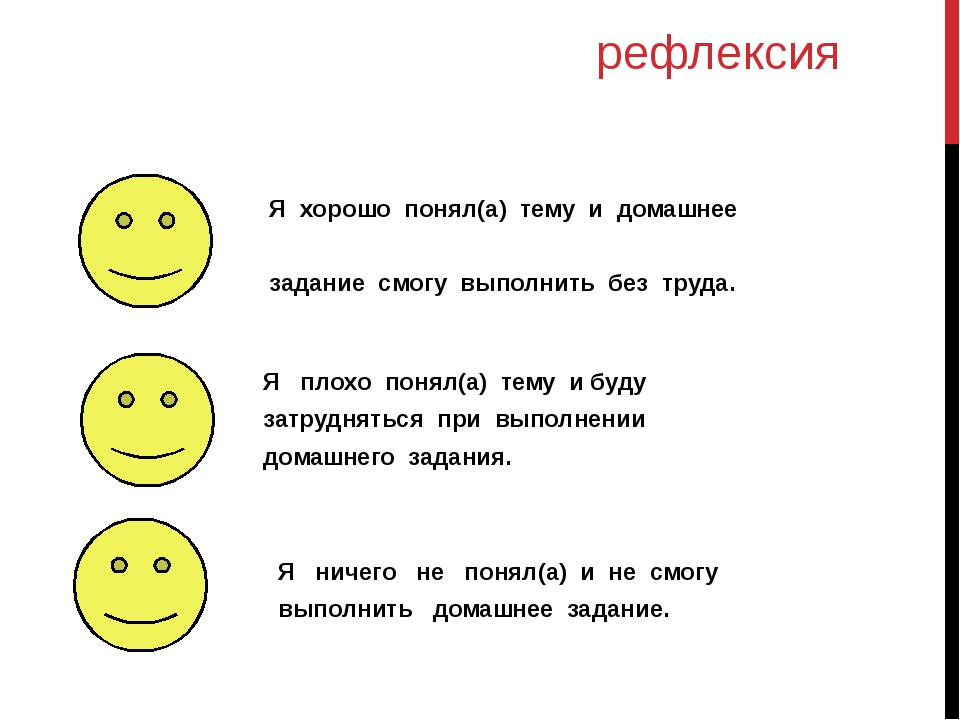 Но по большей части слитно. Хотя, если вы разработаете какую-то диагностику рефлексии, вы увидите их различный смысл. То есть у вас будет содержательный критерий, на базе которого можно создать и формальный критерий, чтобы в любом рассуждении выделять эти четыре вещи. И здесь очень большой объём методической, методологической и просто экспериментальной и очень интересной, с моей точки зрения, работы по диагностике рефлексии.
Но по большей части слитно. Хотя, если вы разработаете какую-то диагностику рефлексии, вы увидите их различный смысл. То есть у вас будет содержательный критерий, на базе которого можно создать и формальный критерий, чтобы в любом рассуждении выделять эти четыре вещи. И здесь очень большой объём методической, методологической и просто экспериментальной и очень интересной, с моей точки зрения, работы по диагностике рефлексии.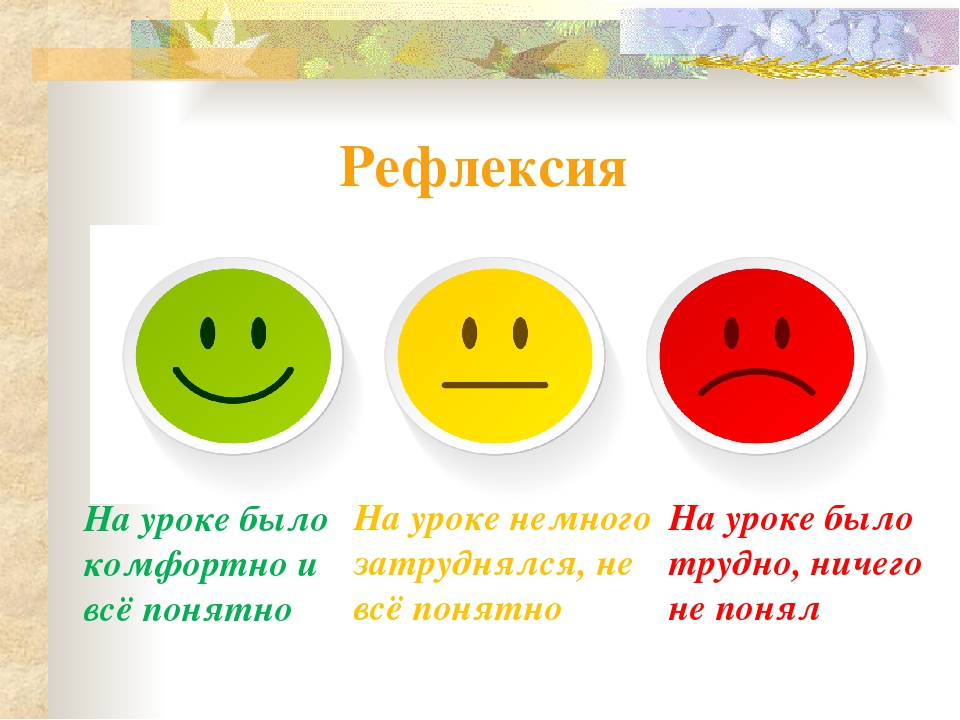
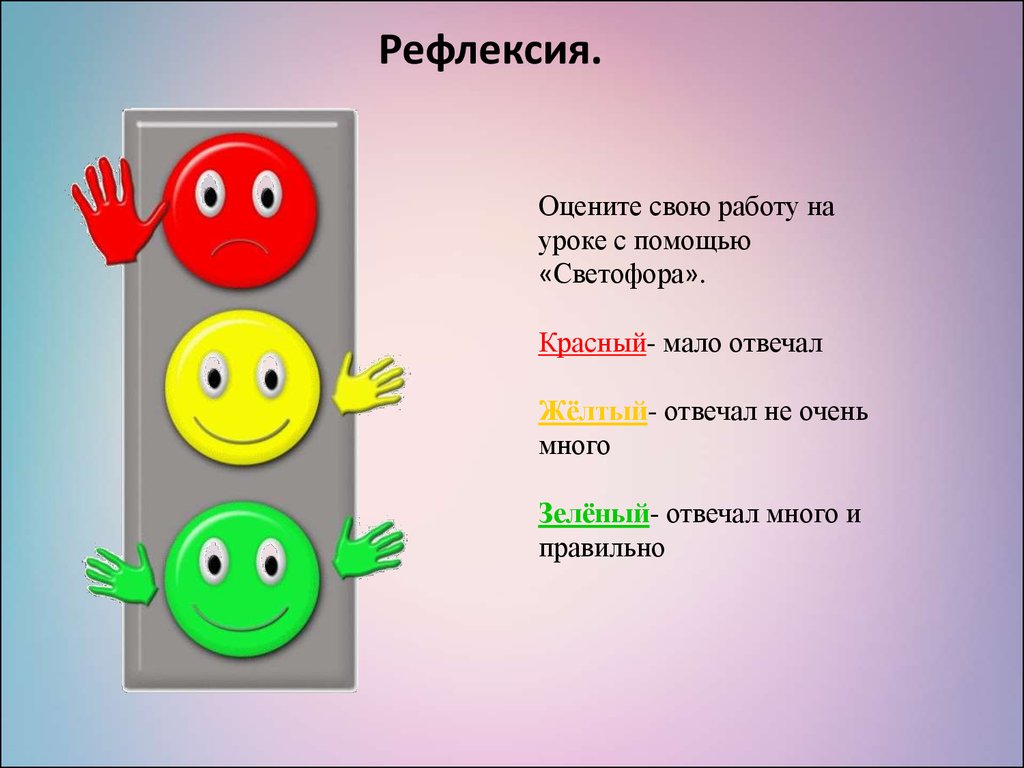 Если говорить буквально, то эта задача связана с тем, что некоторым образом анализируются те основания, те средства, которые были заложены в использованном ранее схематизме.
Если говорить буквально, то эта задача связана с тем, что некоторым образом анализируются те основания, те средства, которые были заложены в использованном ранее схематизме.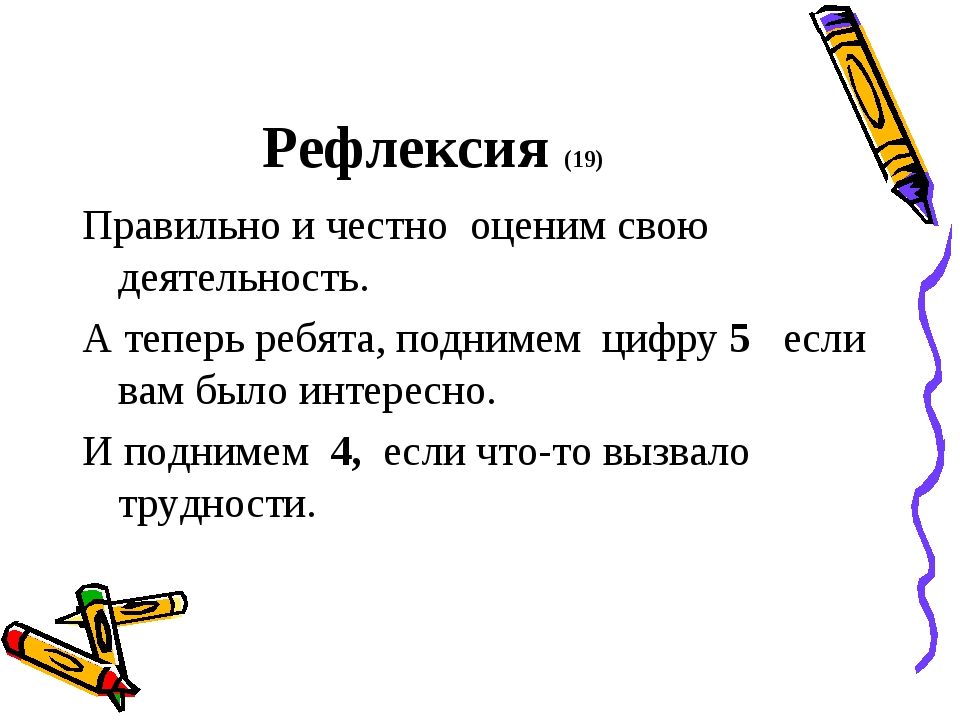 Фактически вот эта блок-схема, назовём её так, движение и является попыткой сделать это.
Фактически вот эта блок-схема, назовём её так, движение и является попыткой сделать это.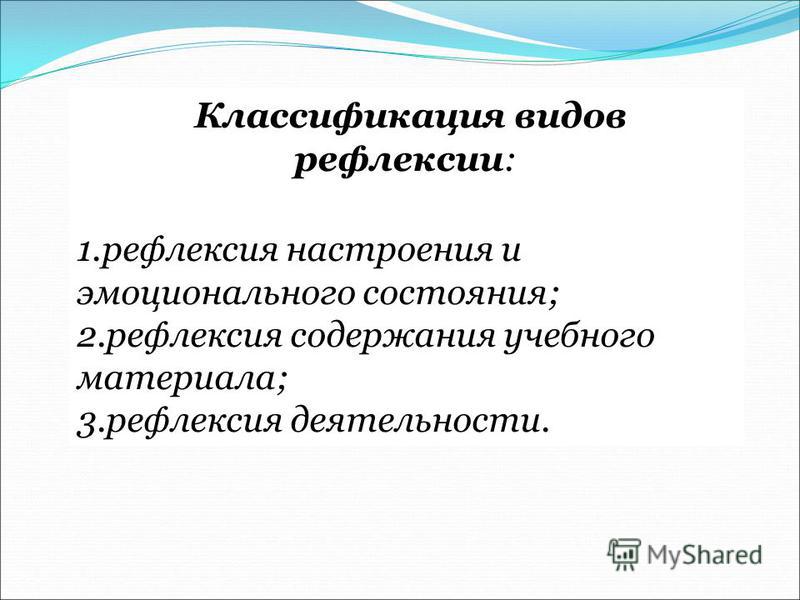
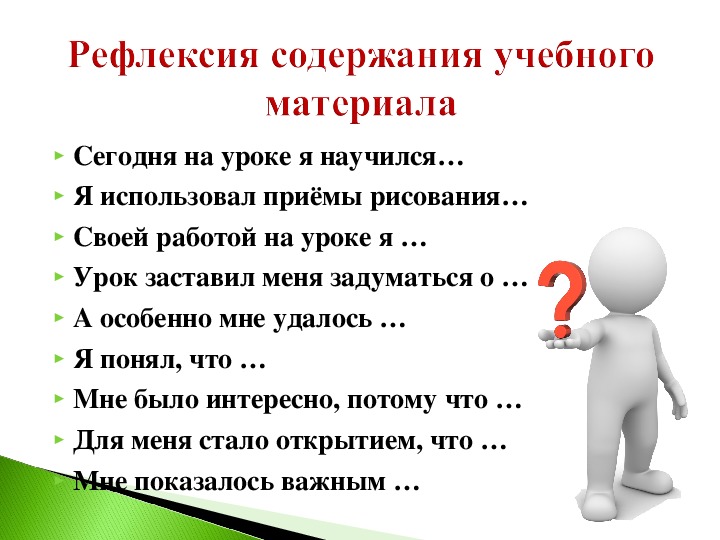 Некоторые пути механизма рефлексии мы опознать, скорее всего, сможем, и в этом смысле эти пути воспроизводимые. Но здесь другое. Какими бы мы формальными знаниями не обладали, когда мы сталкиваемся с реальной ситуацией, мы нечто реальное должны сделать. И это каждый раз есть своя рефлексивная практика. Если своеобразия в данной новой ситуации нет, то мы просто накладываем известный паттерн, шаблон или схему, то тогда, хотя внешний процесс и подобен, но рефлексии нет. Есть то, что П. Я. Гальперин называет подведением под понятие, а П. А. Шеварев — правилосообразное поведение.
Некоторые пути механизма рефлексии мы опознать, скорее всего, сможем, и в этом смысле эти пути воспроизводимые. Но здесь другое. Какими бы мы формальными знаниями не обладали, когда мы сталкиваемся с реальной ситуацией, мы нечто реальное должны сделать. И это каждый раз есть своя рефлексивная практика. Если своеобразия в данной новой ситуации нет, то мы просто накладываем известный паттерн, шаблон или схему, то тогда, хотя внешний процесс и подобен, но рефлексии нет. Есть то, что П. Я. Гальперин называет подведением под понятие, а П. А. Шеварев — правилосообразное поведение.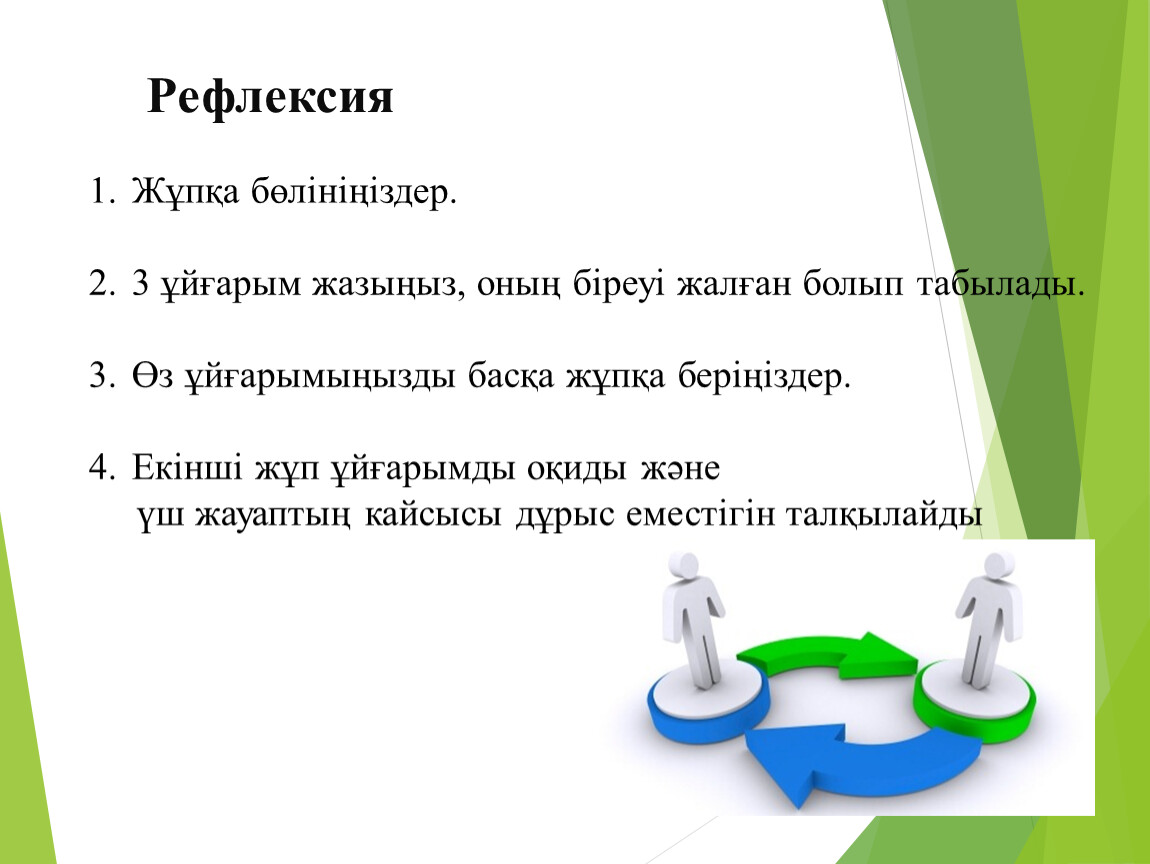 Мне не хватает слов, я не могу найти достаточно хорошего образа даже для себя. Это есть первая часть, то есть постановка рефлексивной задачи — но есть ещё сама рефлексивная задача. О! Теперь понял, как тот лектор, который девять раз объяснял, а на десятый понял, о чём он говорил. Смотрите, всё это может быть сделано, все четыре действия, а рефлексивная задача не решена. Почему мы тогда будем называть это рефлексией? Это не рефлексия. Рефлексия — это когда всё это сделано и ещё решается рефлексивная, задача.
Мне не хватает слов, я не могу найти достаточно хорошего образа даже для себя. Это есть первая часть, то есть постановка рефлексивной задачи — но есть ещё сама рефлексивная задача. О! Теперь понял, как тот лектор, который девять раз объяснял, а на десятый понял, о чём он говорил. Смотрите, всё это может быть сделано, все четыре действия, а рефлексивная задача не решена. Почему мы тогда будем называть это рефлексией? Это не рефлексия. Рефлексия — это когда всё это сделано и ещё решается рефлексивная, задача.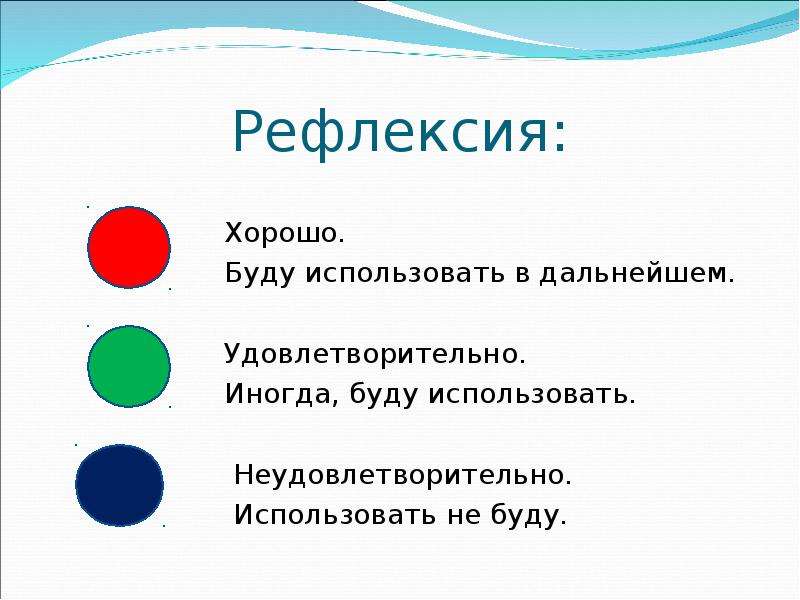
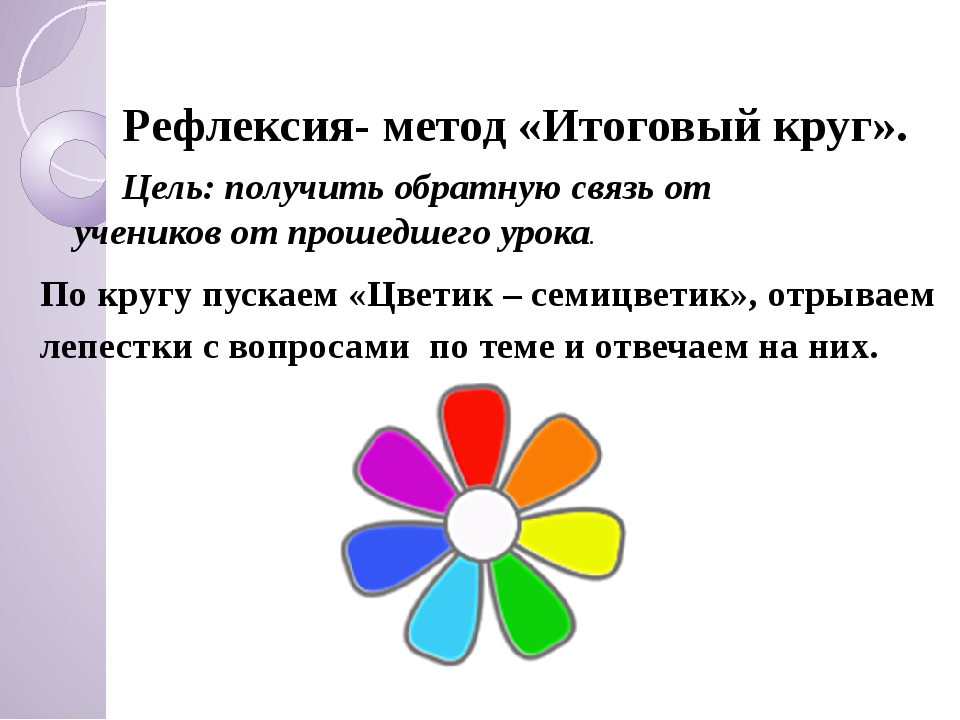
 И, понимая эту действительность, мы её рассортировываем по нашим различениям. Но сейчас я хочу привести один пример, и на нём ввести и рефлексивную задачу и механизм её решения. В своё время мне пришлось пять лет работать математиком в школе, и я встречался со следующим фактом. Одарённые ученики, хорошо соображающие в математике, при решении новых задач, конечно, не все, тратили на их решение относительно большее время, чем просто способные ученики? Меня это страшно заинтересовало. За счёт чего это происходит? Почему люди явно одарённые, любящие математику и так далее тратят на эти задачи относительно большее время? Вот на этот вопрос я для себя должен был ответить. Я как психолог их расспрашивал, узнавал. И вот какой условно-обобщённо, я получал ответ: Вы знаете, я её давно уже решил, но хотел посмотреть, а если в условии что-нибудь изменить, то если решать так, как я её по-новому решил, сработает, или нет. Вот это факт. Это было то, с чего началось выделение этого механизма.
И, понимая эту действительность, мы её рассортировываем по нашим различениям. Но сейчас я хочу привести один пример, и на нём ввести и рефлексивную задачу и механизм её решения. В своё время мне пришлось пять лет работать математиком в школе, и я встречался со следующим фактом. Одарённые ученики, хорошо соображающие в математике, при решении новых задач, конечно, не все, тратили на их решение относительно большее время, чем просто способные ученики? Меня это страшно заинтересовало. За счёт чего это происходит? Почему люди явно одарённые, любящие математику и так далее тратят на эти задачи относительно большее время? Вот на этот вопрос я для себя должен был ответить. Я как психолог их расспрашивал, узнавал. И вот какой условно-обобщённо, я получал ответ: Вы знаете, я её давно уже решил, но хотел посмотреть, а если в условии что-нибудь изменить, то если решать так, как я её по-новому решил, сработает, или нет. Вот это факт. Это было то, с чего началось выделение этого механизма.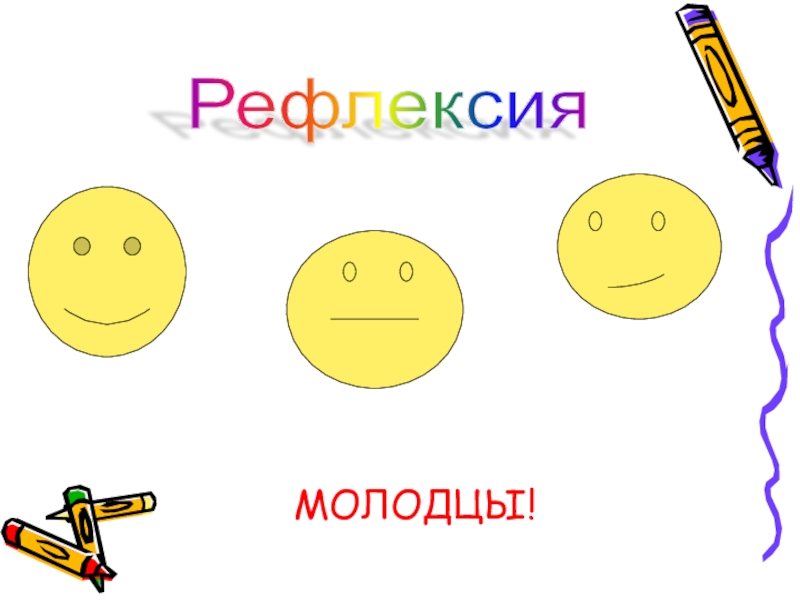 Первое, что он сделал, он начал размножать условия, он вместо одной задачи сделал две задачи. У него появилось условие–1, условие–2… условие–N. Далее, под условием–1 он ввёл некую систему действий–1, к условию–2 он применил их и ещё нечто другое, поэтому это есть система действий–2 и так далее — до системы действий–N. Как же шла его мысль, его работа? Ведь он эти условия как бы сравнивал.
Первое, что он сделал, он начал размножать условия, он вместо одной задачи сделал две задачи. У него появилось условие–1, условие–2… условие–N. Далее, под условием–1 он ввёл некую систему действий–1, к условию–2 он применил их и ещё нечто другое, поэтому это есть система действий–2 и так далее — до системы действий–N. Как же шла его мысль, его работа? Ведь он эти условия как бы сравнивал.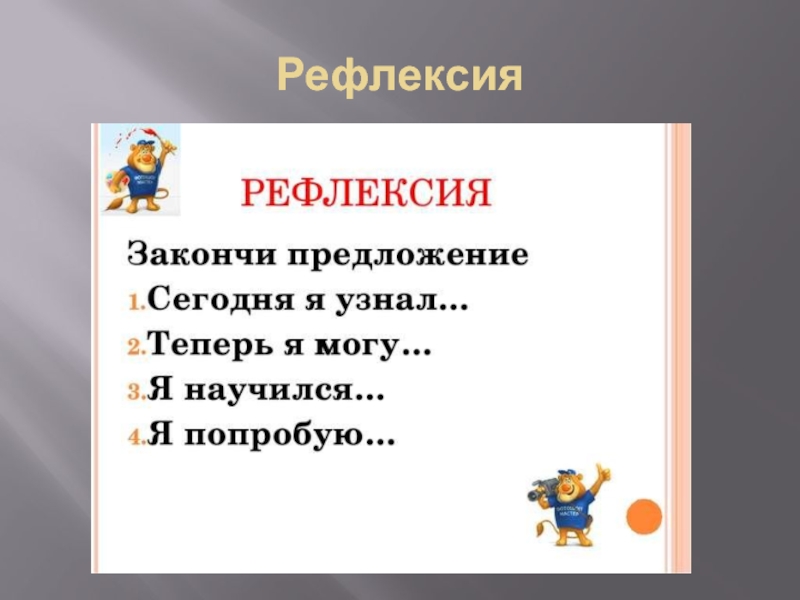 Но каков же конкретно психологический механизм, обеспечивающий работу рефлексии? Механизмом рефлексии является соотнесение рядов сопоставления. Что этим я делаю? Я расставляю для себя возможность в полученную схему каждый раз подставлять всё, что мне нужно. Попадаю я в новую для себя среду, реализую свою норму поведения — это Норма–1. Она почему-то не срабатывает. Что я делаю? Занимаюсь анализом своей собственной формы? Да ничего подобного. И никогда я этим не буду заниматься, потому что если я буду заниматься лишь анализом своей нормы, то я всё время буду заниматься самокопанием, например, про того горьковского мальчика. Я начинаю её сравнивать с Нормой–2, выбираемой из Нормы–3, Нормы–4, Нормы–N из этого окружения.
Но каков же конкретно психологический механизм, обеспечивающий работу рефлексии? Механизмом рефлексии является соотнесение рядов сопоставления. Что этим я делаю? Я расставляю для себя возможность в полученную схему каждый раз подставлять всё, что мне нужно. Попадаю я в новую для себя среду, реализую свою норму поведения — это Норма–1. Она почему-то не срабатывает. Что я делаю? Занимаюсь анализом своей собственной формы? Да ничего подобного. И никогда я этим не буду заниматься, потому что если я буду заниматься лишь анализом своей нормы, то я всё время буду заниматься самокопанием, например, про того горьковского мальчика. Я начинаю её сравнивать с Нормой–2, выбираемой из Нормы–3, Нормы–4, Нормы–N из этого окружения. И этот механизм и показывает некоторые специфические характеристики собственно рефлексивной задачи. Во-первых, я нахожусь в совершенно иной действительности по отношению к схематизму 1, который был. Моя деятельность направлена на этот схематизм, потому что он не сработал. Для того, чтобы выдать новое, то есть лучше управиться, отрегулировать собственное поведение, либо поведение других, я строю некую идеальную действительность для себя, (скажем, приведённого выше типа). Осуществляю рефлексивный выход в неё. Выход подготовлен. Этот механизм достаточно подробно описан в моей работе в сборнике Педагогика и логика (Н. Г. Алексеев — Формирование осознанного решения учебной задачи. В сборнике: Педагогика и логика. — М., Касталь, 1993, с. 378–409. Первое издание сборника Педагогика и логика было подготовлено в 1968 году. Однако в связи с известными событиями лета 1968 года готовый набор книги был рассыпан и впервые сборник вышел в свет в 1993 году. — Прим. ред.) и в моём диссертационном исследовании (Н.
И этот механизм и показывает некоторые специфические характеристики собственно рефлексивной задачи. Во-первых, я нахожусь в совершенно иной действительности по отношению к схематизму 1, который был. Моя деятельность направлена на этот схематизм, потому что он не сработал. Для того, чтобы выдать новое, то есть лучше управиться, отрегулировать собственное поведение, либо поведение других, я строю некую идеальную действительность для себя, (скажем, приведённого выше типа). Осуществляю рефлексивный выход в неё. Выход подготовлен. Этот механизм достаточно подробно описан в моей работе в сборнике Педагогика и логика (Н. Г. Алексеев — Формирование осознанного решения учебной задачи. В сборнике: Педагогика и логика. — М., Касталь, 1993, с. 378–409. Первое издание сборника Педагогика и логика было подготовлено в 1968 году. Однако в связи с известными событиями лета 1968 года готовый набор книги был рассыпан и впервые сборник вышел в свет в 1993 году. — Прим. ред.) и в моём диссертационном исследовании (Н.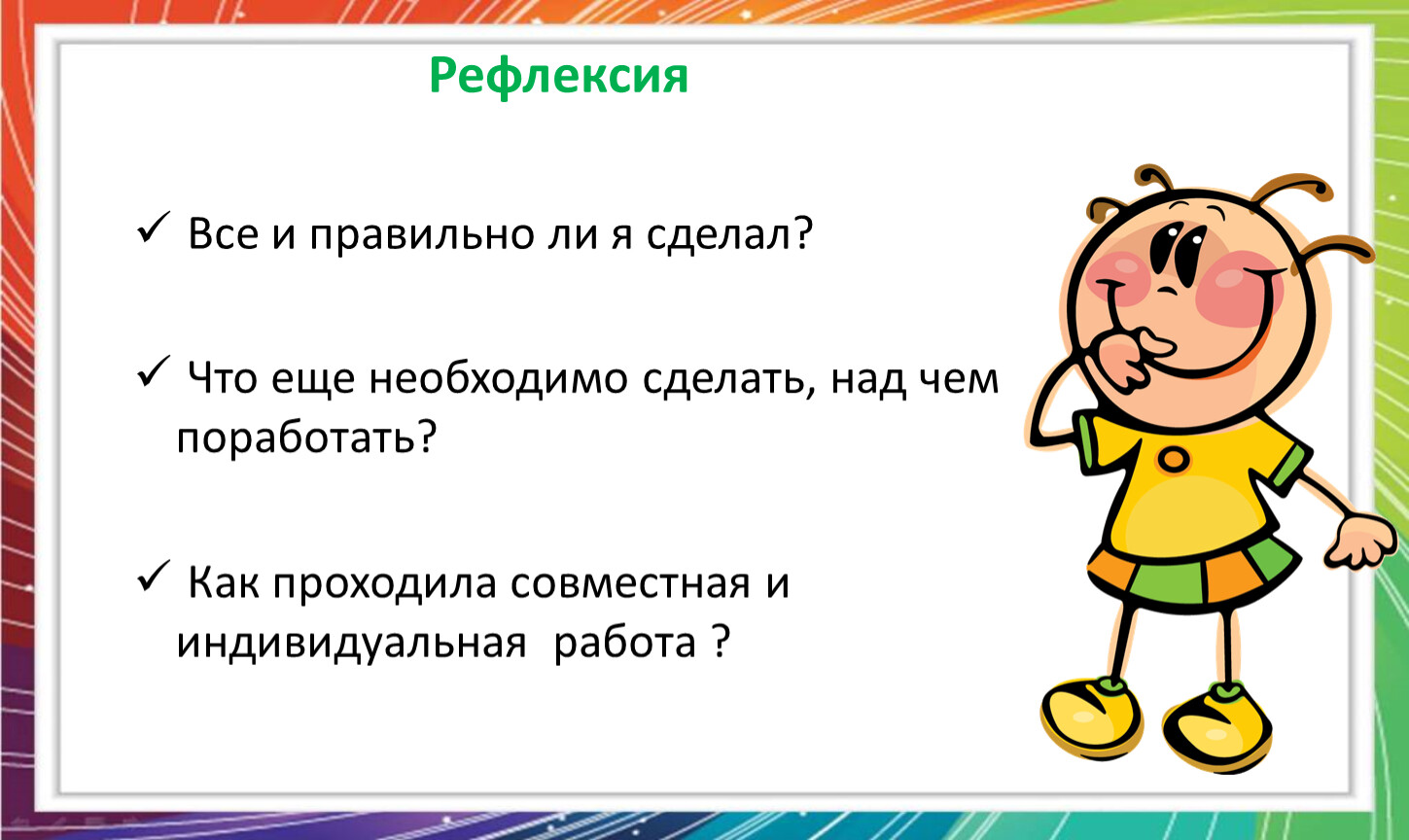 Г. Алексеев. Формирование осознанного решения учебной задачи. Автореф. канд. дисс. — М. МГПИ, 1975).
Г. Алексеев. Формирование осознанного решения учебной задачи. Автореф. канд. дисс. — М. МГПИ, 1975).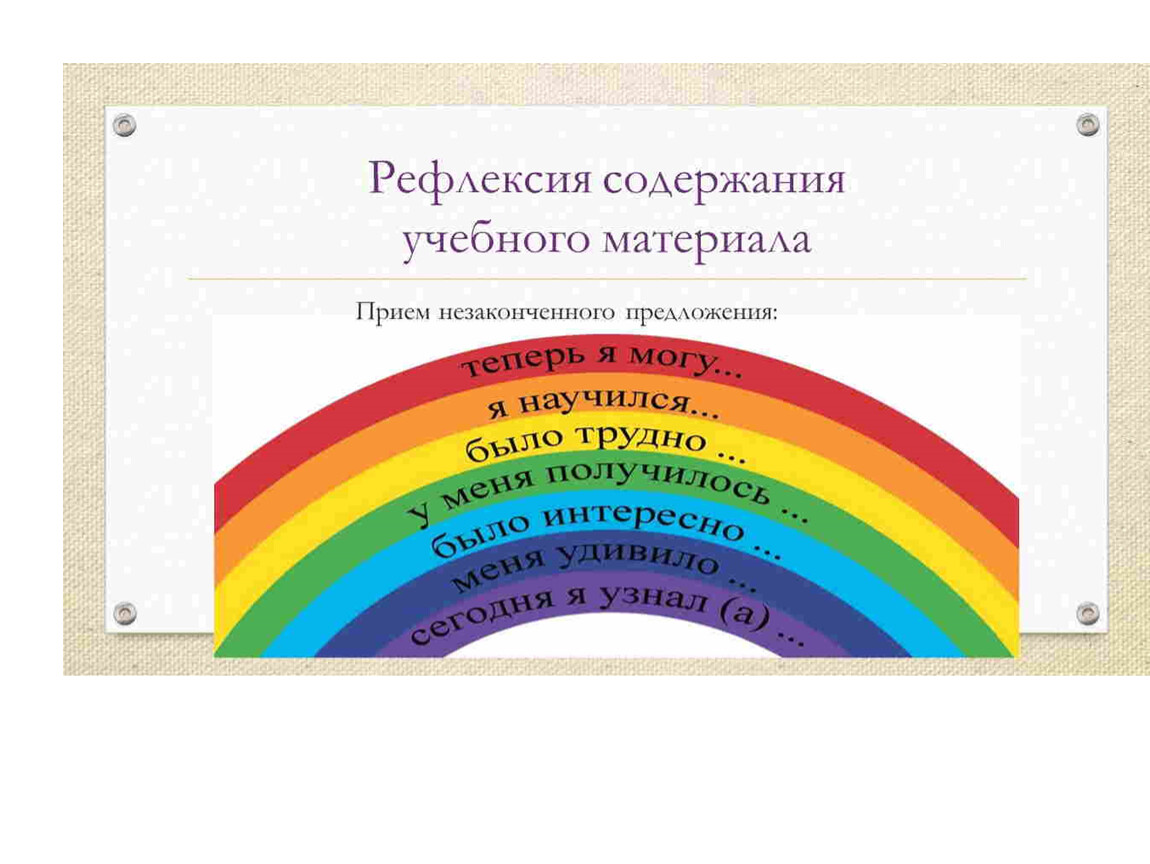 Получилась чёткая и интересная вещь — когда человек проходил четыре условия и после этого начинал решать рефлексивную задачу, он рассказывал все с той или иной степенью ограничения. Что при помощи этой методики или теста можно исследовать? Понимаете, — это конструкция, как и всё остальное, психологическое. Я говорил, но могу повторить: я не верю в законы психики какие-то. Человек от человека меняется и будет меняться — в этом его слабое достоинство. Поймите, я ведь не математиков беру, а реальную ситуацию действия, и на ней могу, как мне кажется, показать, что этот механизм работает. (Пример с Tомом Сойером, когда Том красил забор.)
Получилась чёткая и интересная вещь — когда человек проходил четыре условия и после этого начинал решать рефлексивную задачу, он рассказывал все с той или иной степенью ограничения. Что при помощи этой методики или теста можно исследовать? Понимаете, — это конструкция, как и всё остальное, психологическое. Я говорил, но могу повторить: я не верю в законы психики какие-то. Человек от человека меняется и будет меняться — в этом его слабое достоинство. Поймите, я ведь не математиков беру, а реальную ситуацию действия, и на ней могу, как мне кажется, показать, что этот механизм работает. (Пример с Tомом Сойером, когда Том красил забор.)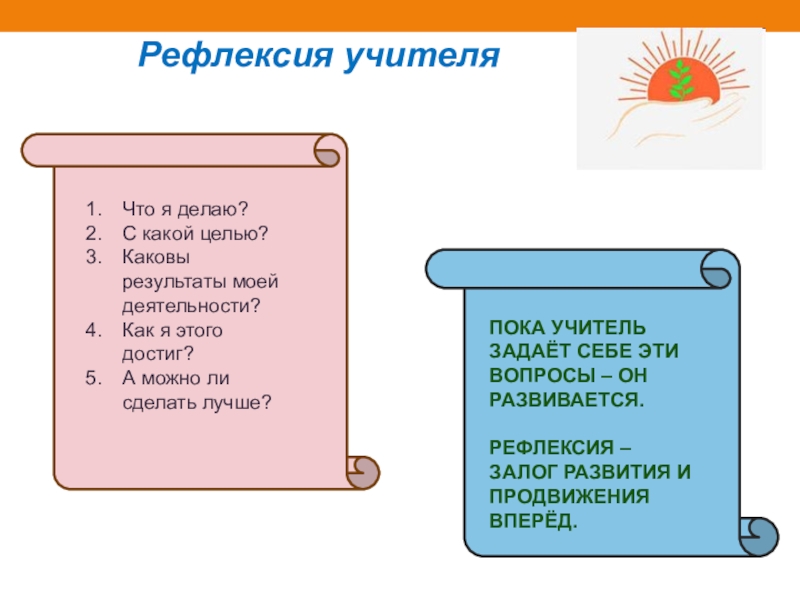 Очень часто сознание начинают с чем-то соотносить для построения некой формальной системы, не задумываясь, что эти разные понятия возникали в разных реальностях для решения разных задач.
Очень часто сознание начинают с чем-то соотносить для построения некой формальной системы, не задумываясь, что эти разные понятия возникали в разных реальностях для решения разных задач.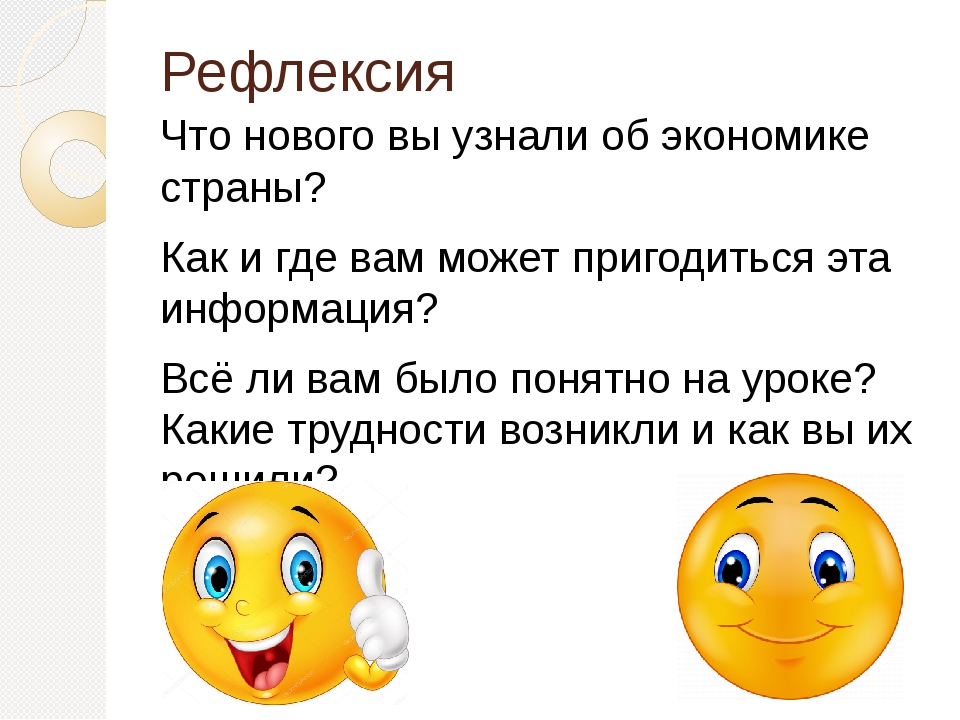 Часто делают так: берут общие понятия, не задумываясь над простой вещью, что и общие понятия возникают для решения вполне определённых социокультурных задач и для разных целей. Например, начинают рассуждать, о том, что общего было в понимании мышления у Аристотеля, у Канта, у Гегеля и что осталось там рационального. Но не задумываются над тем вопросом, что для Аристотеля идеи о мышлении, размышления. О мышлении в определённой социокультурной ситуации, очень большой, значимой, но, тем не менее, совершенно определённое решение задач. А у Канта они были другие. А, скажем, Фихте — у него были третьи, ему надо было торжество личности провозгласить. И только поэтому он дошёл до решения этой задачи, он дошёл до понимания активности человеческого сознания. И это была задача, которая ставилась в то время.
Часто делают так: берут общие понятия, не задумываясь над простой вещью, что и общие понятия возникают для решения вполне определённых социокультурных задач и для разных целей. Например, начинают рассуждать, о том, что общего было в понимании мышления у Аристотеля, у Канта, у Гегеля и что осталось там рационального. Но не задумываются над тем вопросом, что для Аристотеля идеи о мышлении, размышления. О мышлении в определённой социокультурной ситуации, очень большой, значимой, но, тем не менее, совершенно определённое решение задач. А у Канта они были другие. А, скажем, Фихте — у него были третьи, ему надо было торжество личности провозгласить. И только поэтому он дошёл до решения этой задачи, он дошёл до понимания активности человеческого сознания. И это была задача, которая ставилась в то время. Нам кажется, что это все по природе так существует, а мы только можем все исследовать так, как надо. Аристотель что-то исследовал не до конца, не до конца что-то понял. Потом кто-то понял лучше, кто-то ещё лучше понял. Я принципиально не приемлю такую позицию. Я считаю, что Аристотель исследовал до конца и ответил на ту задачу, которая стояла для его времени, и только мы это не домысливаем, начинаем думать, что он это осветил, а вот это не осветил. А он осветил всё, что нужно было осветить.
Нам кажется, что это все по природе так существует, а мы только можем все исследовать так, как надо. Аристотель что-то исследовал не до конца, не до конца что-то понял. Потом кто-то понял лучше, кто-то ещё лучше понял. Я принципиально не приемлю такую позицию. Я считаю, что Аристотель исследовал до конца и ответил на ту задачу, которая стояла для его времени, и только мы это не домысливаем, начинаем думать, что он это осветил, а вот это не осветил. А он осветил всё, что нужно было осветить.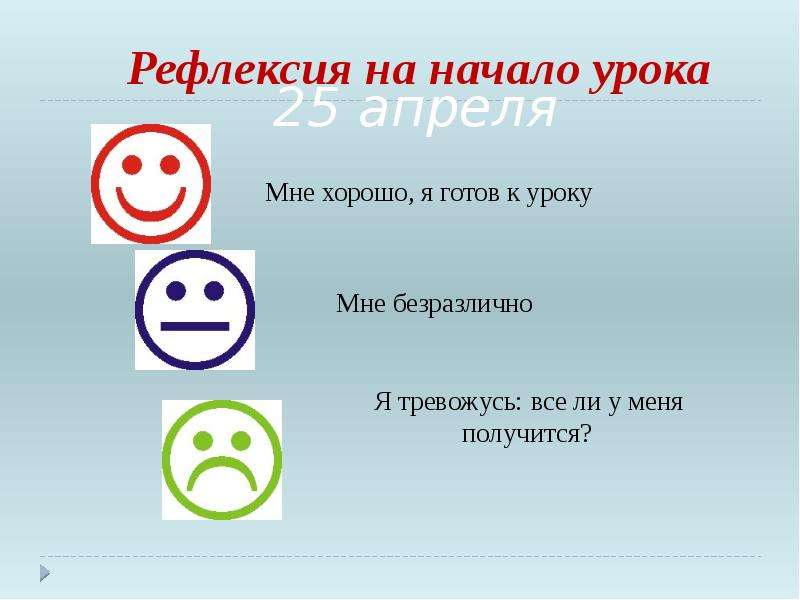 Он говорит: все это экзотерические исследования в рамках одной парадигмы. Вот когда принята основная система допущений, вот тогда там и копают, и копают все сложные вещи. А если поколению везёт, если поколение застаёт новые условия своего существования, то ему не это надо решать. Потом это сводится к культуре. Конечно, культуру надо знать, и в первой части я попытался показать, на каких предпосылках понимания рефлексии моё понимание основывается. Они в нас сидят, и мы не можем от них освободиться, но, может быть, попозже мы и их сбросим. Это нужно учитывать, но, тем не менее, работая, строить надо заново. А если вы не будете работать заново, то вы не получите нового материала. И это заново должно чувствоваться и с той, новой ситуацией, в которую вы погружаетесь. А социокультурные задачи, общечеловеческие — они всё время возникают, но они не измеряются жизнью поколений, они могут измеряться и пятью годами, а могут и столетиями.
Он говорит: все это экзотерические исследования в рамках одной парадигмы. Вот когда принята основная система допущений, вот тогда там и копают, и копают все сложные вещи. А если поколению везёт, если поколение застаёт новые условия своего существования, то ему не это надо решать. Потом это сводится к культуре. Конечно, культуру надо знать, и в первой части я попытался показать, на каких предпосылках понимания рефлексии моё понимание основывается. Они в нас сидят, и мы не можем от них освободиться, но, может быть, попозже мы и их сбросим. Это нужно учитывать, но, тем не менее, работая, строить надо заново. А если вы не будете работать заново, то вы не получите нового материала. И это заново должно чувствоваться и с той, новой ситуацией, в которую вы погружаетесь. А социокультурные задачи, общечеловеческие — они всё время возникают, но они не измеряются жизнью поколений, они могут измеряться и пятью годами, а могут и столетиями. На материале рефлексии представлена более глубокая вещь мировоззренческого уровня. Речь идёт о том, что в исследовании человека, человеческой деятельности, человеческого мышления есть два принципиальных подхода. При одном подходе считается, что человеческое мышление и человеческая деятельность изначально задана, с какого-то момента все стороны там, в заданном, есть. И задача состоит только в том, чтобы к ним пробиваться и, соответственно, поколения исследователей друг от друга отличаются глубиной исследований природы человеческого мышления, человеческой деятельности. Аристотель что-то сделал, но не до конца доработал. Следующие поколения дополняли то, что не доделал, скажем, Аристотель. Но уже изначально существовало всё, что может существовать в мышлении.
На материале рефлексии представлена более глубокая вещь мировоззренческого уровня. Речь идёт о том, что в исследовании человека, человеческой деятельности, человеческого мышления есть два принципиальных подхода. При одном подходе считается, что человеческое мышление и человеческая деятельность изначально задана, с какого-то момента все стороны там, в заданном, есть. И задача состоит только в том, чтобы к ним пробиваться и, соответственно, поколения исследователей друг от друга отличаются глубиной исследований природы человеческого мышления, человеческой деятельности. Аристотель что-то сделал, но не до конца доработал. Следующие поколения дополняли то, что не доделал, скажем, Аристотель. Но уже изначально существовало всё, что может существовать в мышлении.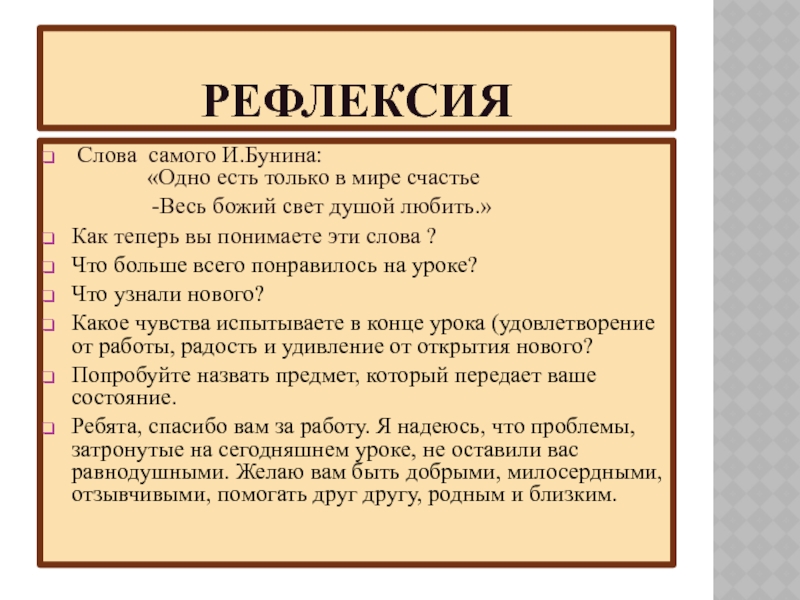 И принципиально Аристотель не мог сделать того, что делаем мы сейчас, не потому, что он был ограничен разными обстоятельствами, а потому, что то, что делаем мы сейчас, во времена Аристотеля просто не существовало.
И принципиально Аристотель не мог сделать того, что делаем мы сейчас, не потому, что он был ограничен разными обстоятельствами, а потому, что то, что делаем мы сейчас, во времена Аристотеля просто не существовало.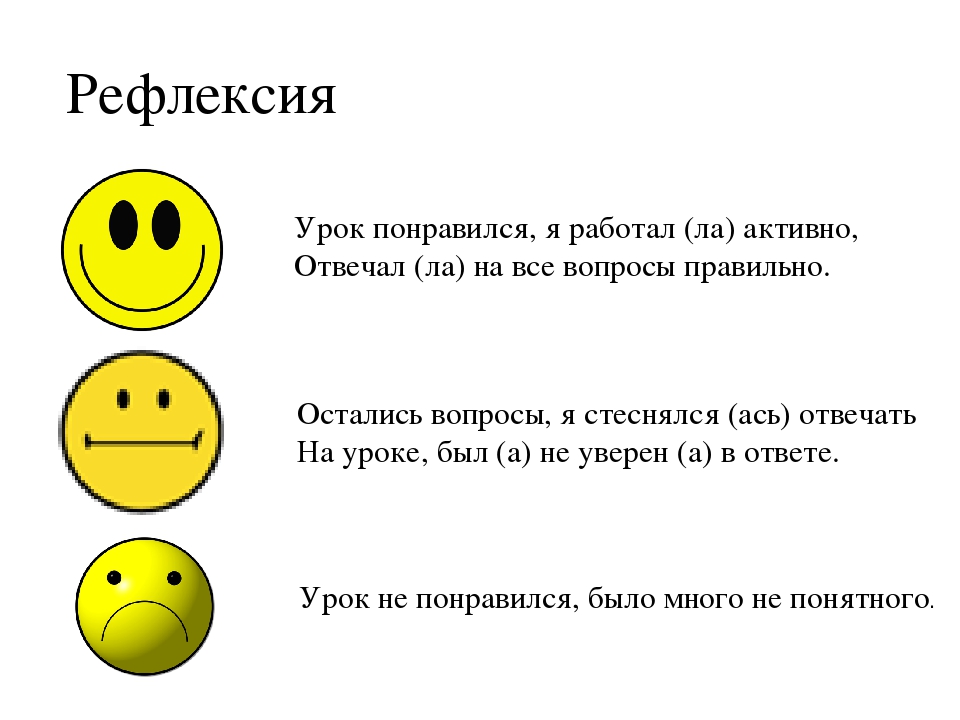 Обе линии отчаянно борются, и борьба очень острая, и в настоящее время — эта борьба стала принципиальна, раньше она шла подспудно, а сейчас она чётко эксплицирована. За рубежом, например, позитивизм — это чистой воды неэволюционная система изучения мышления. Есть антипозитивизм, который выступает как исторический подход к мышлению. Марксистская литература критикует серьёзные недочёты и недостатки этой исторической ориентации в зарубежной логике и методологии науки в исследовании мышления. Но идею историчности подхода, в целом, глобально, мы поддерживаем, не её конкретную реализацию, а глобальный заход. Если персонально, то все позитивисты, Венский кружок, вплоть до К. Поппера, хотя он к нему не относится. А вот ученики К. Поппера, начиная, скажем, с И. Лакатоса, П. Фейерабенда и других — они как раз при всех своих ошибках ближе ко второму направлению.
Обе линии отчаянно борются, и борьба очень острая, и в настоящее время — эта борьба стала принципиальна, раньше она шла подспудно, а сейчас она чётко эксплицирована. За рубежом, например, позитивизм — это чистой воды неэволюционная система изучения мышления. Есть антипозитивизм, который выступает как исторический подход к мышлению. Марксистская литература критикует серьёзные недочёты и недостатки этой исторической ориентации в зарубежной логике и методологии науки в исследовании мышления. Но идею историчности подхода, в целом, глобально, мы поддерживаем, не её конкретную реализацию, а глобальный заход. Если персонально, то все позитивисты, Венский кружок, вплоть до К. Поппера, хотя он к нему не относится. А вот ученики К. Поппера, начиная, скажем, с И. Лакатоса, П. Фейерабенда и других — они как раз при всех своих ошибках ближе ко второму направлению. Почему мы это чувствуем? Потому что понимаем, что так быть не может. Мы понимаем, или более мягко, начинаем понимать, что усилия одного не достигают цели. Что для этого нужна определённая кооперативная деятельность, и чем более мы вспоминаем, начинаем чувствовать, причём чувствуем это реально, практически, что любое действие все менее и менее становится автономным. Оно не становиться не свободным, но зависит от действий других лиц. От посредников. Но разве раньше действие не опосредовалось? Конечно опосредовалось, но степень автономности его, возьмите, например, натуральное хозяйство, была более ярко выражена.
Почему мы это чувствуем? Потому что понимаем, что так быть не может. Мы понимаем, или более мягко, начинаем понимать, что усилия одного не достигают цели. Что для этого нужна определённая кооперативная деятельность, и чем более мы вспоминаем, начинаем чувствовать, причём чувствуем это реально, практически, что любое действие все менее и менее становится автономным. Оно не становиться не свободным, но зависит от действий других лиц. От посредников. Но разве раньше действие не опосредовалось? Конечно опосредовалось, но степень автономности его, возьмите, например, натуральное хозяйство, была более ярко выражена.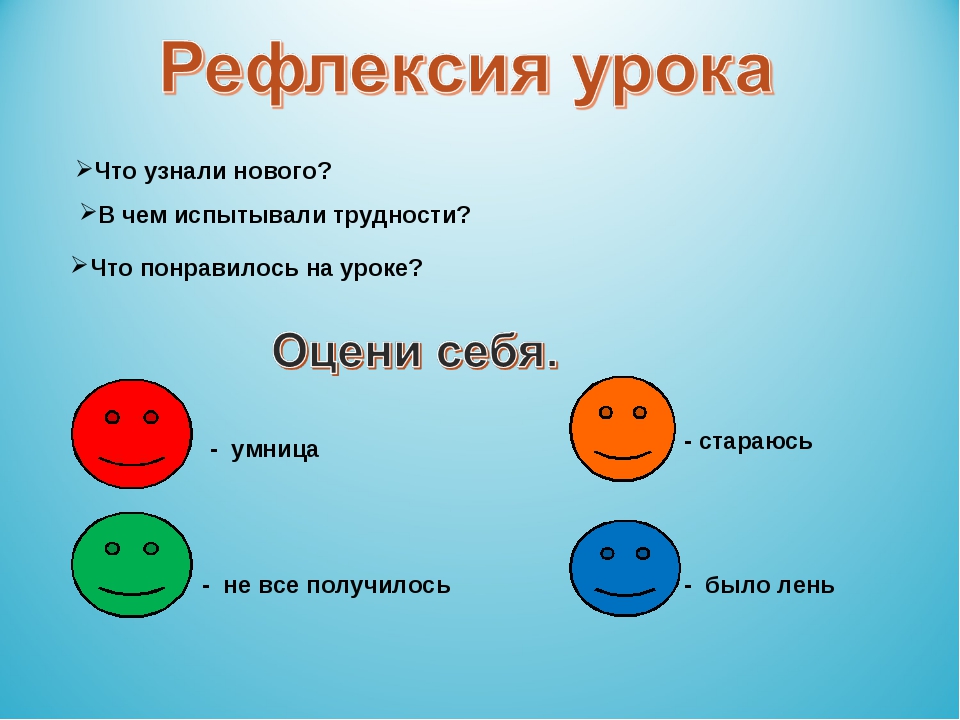 Это явилось кардинальным условием изменения мышления.
Это явилось кардинальным условием изменения мышления. Сепира и Б. Л. Уорфа о лингвистической относительности? С работами А. Я. Гуревича по средневековому мышлению? Вот в этих работах эта вторая, конструктивная позиция, как её называют, представлена достаточно сильно. Если брать советскую психологию, то вторая позиция, наиболее чётко выражается в исследованиях, которые каким-то образом сгруппированы вокруг Г. П. Щедровицкого.
Сепира и Б. Л. Уорфа о лингвистической относительности? С работами А. Я. Гуревича по средневековому мышлению? Вот в этих работах эта вторая, конструктивная позиция, как её называют, представлена достаточно сильно. Если брать советскую психологию, то вторая позиция, наиболее чётко выражается в исследованиях, которые каким-то образом сгруппированы вокруг Г. П. Щедровицкого.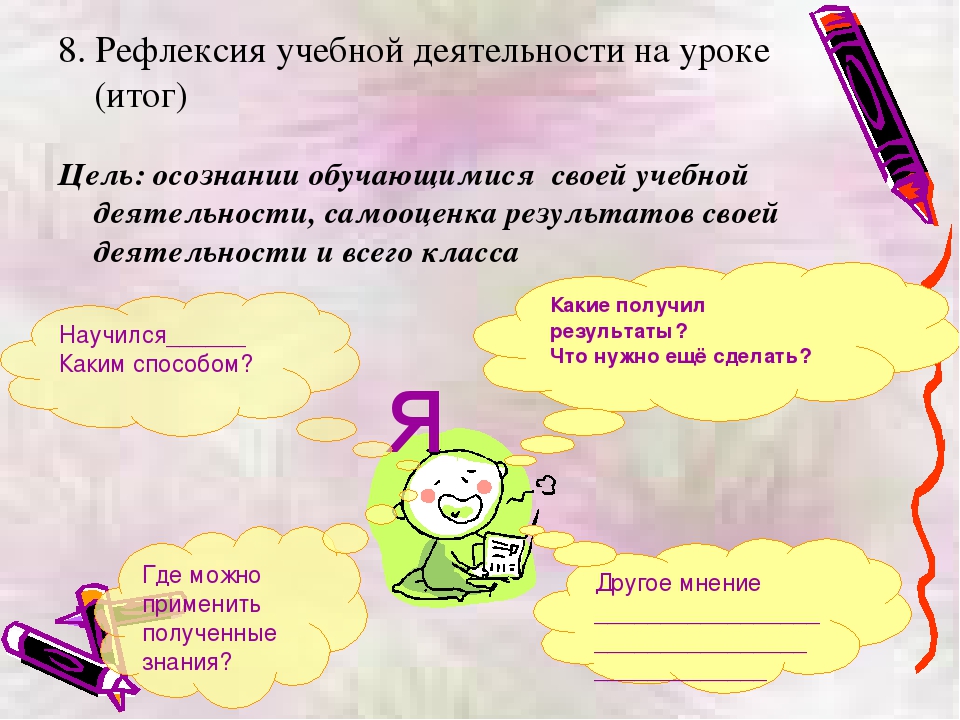 Да если бы я такую задачу поставил, то не решил бы её. Задача стояла в другом: сконструировать, что такое рефлексия и чем может быть рефлексия. Я могу сконструировать плохо, и эта конструкция в жизни не пройдёт — это моя частная неудача. Второй момент — что значит сконструировать? Это просто так на пустом месте задуматься и что-то там выдумать? Конечно, нет. И именно это я и хотел вам показать. Ведь такая конструкция опирается и на изучение достижений предыдущей мысли, что очень важно, и в этом вторая, неразвёрнутая, и поэтому менее понятная, часть доклада, на анализе того, что в жизни происходит. Это не волюнтаристский акт, конструкция, поймите это. Но это действительно конструкция, которая учитывает и культуру и запрос сегодняшней действительности, как она идёт. Почему мне так понадобились условия, в которых возникает мыслительное действие, показ их какой-то всеобщности, совершенно для нас неестественной. Ведь та конструкция, которая неосознанно начинает реализовываться — должна быть осознана.
Да если бы я такую задачу поставил, то не решил бы её. Задача стояла в другом: сконструировать, что такое рефлексия и чем может быть рефлексия. Я могу сконструировать плохо, и эта конструкция в жизни не пройдёт — это моя частная неудача. Второй момент — что значит сконструировать? Это просто так на пустом месте задуматься и что-то там выдумать? Конечно, нет. И именно это я и хотел вам показать. Ведь такая конструкция опирается и на изучение достижений предыдущей мысли, что очень важно, и в этом вторая, неразвёрнутая, и поэтому менее понятная, часть доклада, на анализе того, что в жизни происходит. Это не волюнтаристский акт, конструкция, поймите это. Но это действительно конструкция, которая учитывает и культуру и запрос сегодняшней действительности, как она идёт. Почему мне так понадобились условия, в которых возникает мыслительное действие, показ их какой-то всеобщности, совершенно для нас неестественной. Ведь та конструкция, которая неосознанно начинает реализовываться — должна быть осознана.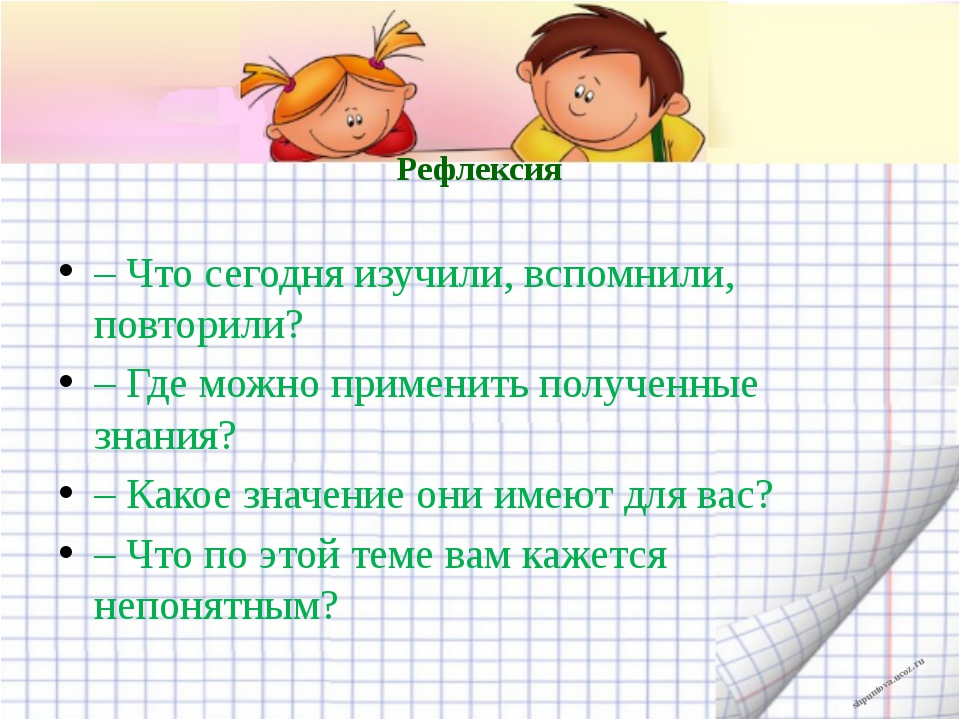 Кстати, роль философской литературы и состояла в этом — они осознавали веления своего времени, так говорили в старину. И в этом смысле проектировали возможное будущее движение.
Кстати, роль философской литературы и состояла в этом — они осознавали веления своего времени, так говорили в старину. И в этом смысле проектировали возможное будущее движение. Вы даже не читаете 12 стульев и Золотой теленок. Это те самые художники, им надо было перекрасить машину, которую они украли, а красок в городе не оказалось. Почему? А потому, что там один гайками метать начал, зерном и прочее. Это был кружок диастанковистов.
Вы даже не читаете 12 стульев и Золотой теленок. Это те самые художники, им надо было перекрасить машину, которую они украли, а красок в городе не оказалось. Почему? А потому, что там один гайками метать начал, зерном и прочее. Это был кружок диастанковистов.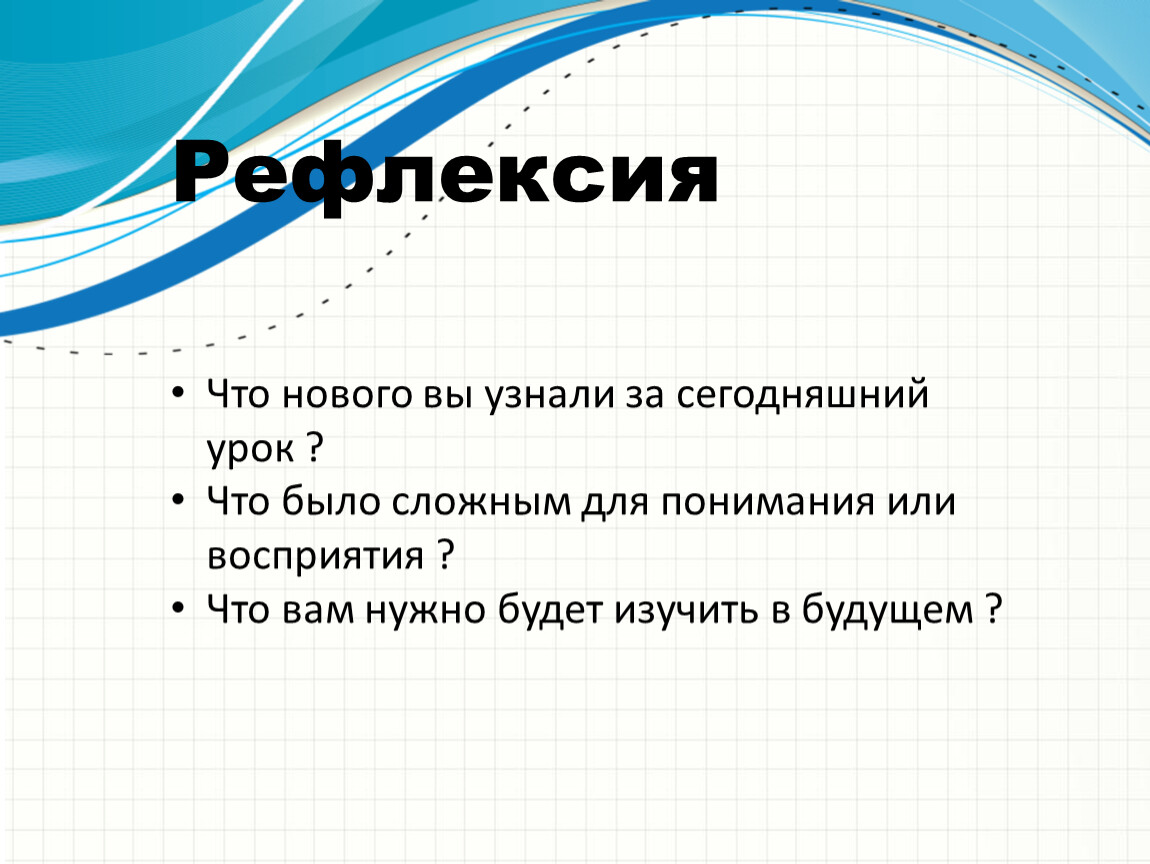
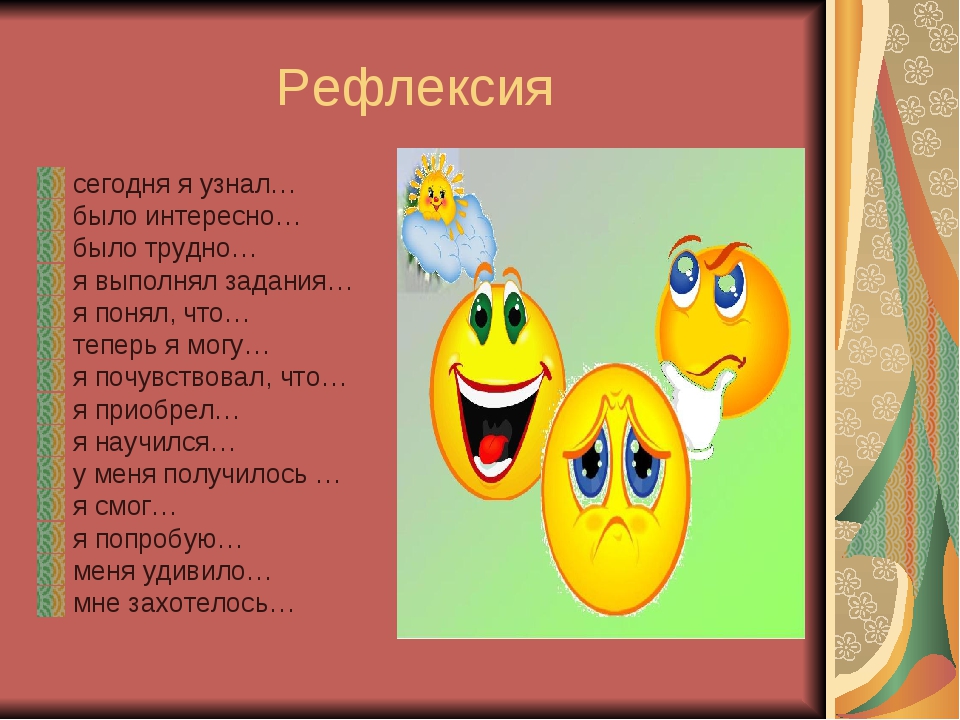
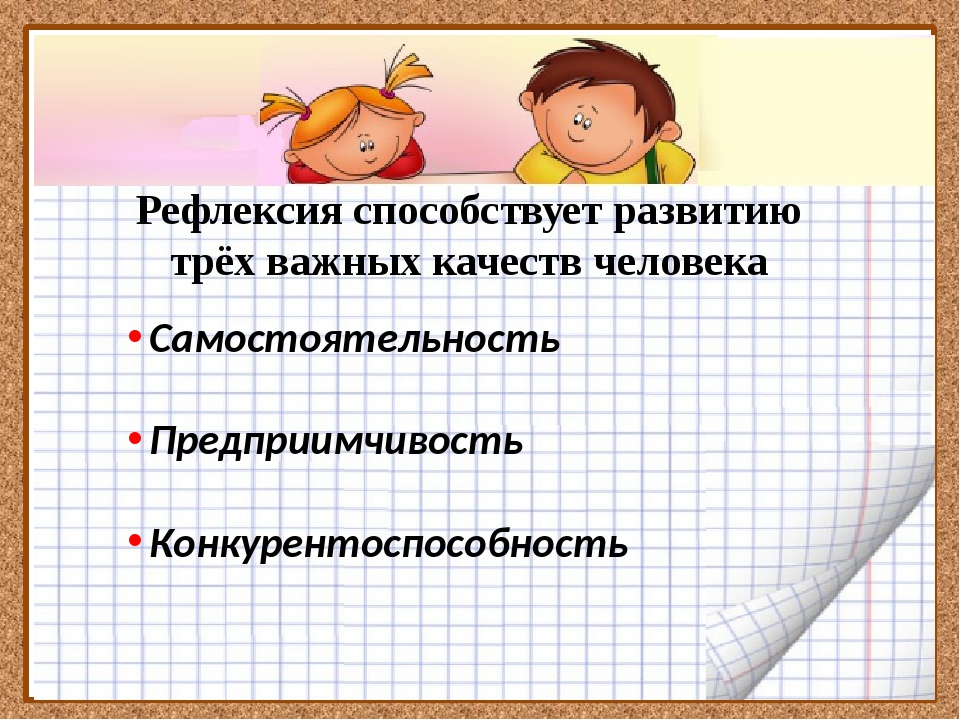 И мне кажется, что есть действительно творческие решения, которые даже не предполагают обращение мышления на мышление. Ведь часто, творчество связано не с радостью, а с какими-то занудливыми операциями.
И мне кажется, что есть действительно творческие решения, которые даже не предполагают обращение мышления на мышление. Ведь часто, творчество связано не с радостью, а с какими-то занудливыми операциями.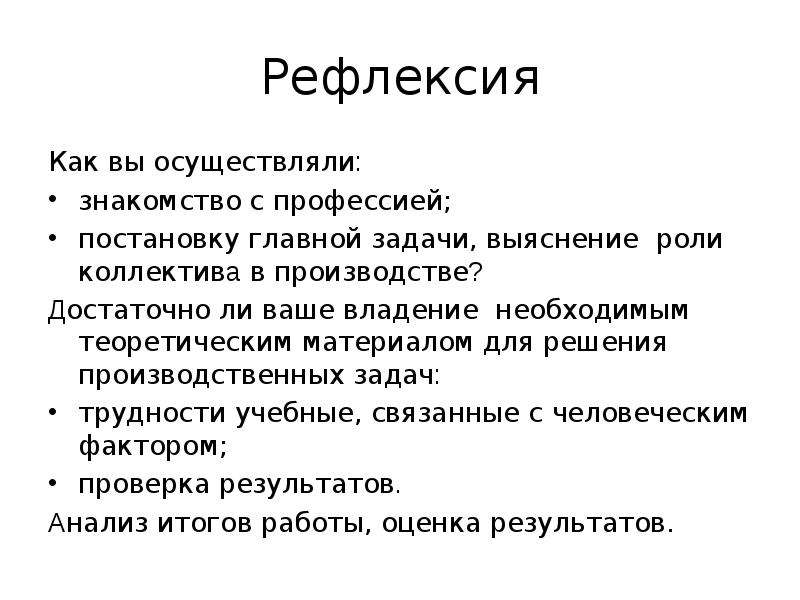 И тогда реконструировать при помощи этого понятия простые конкретные вещи становится невозможным. Потому что все расплывается. Здесь я придерживаюсь одного из любимых высказываний Гегеля: Если все белое, то нет белого.
И тогда реконструировать при помощи этого понятия простые конкретные вещи становится невозможным. Потому что все расплывается. Здесь я придерживаюсь одного из любимых высказываний Гегеля: Если все белое, то нет белого.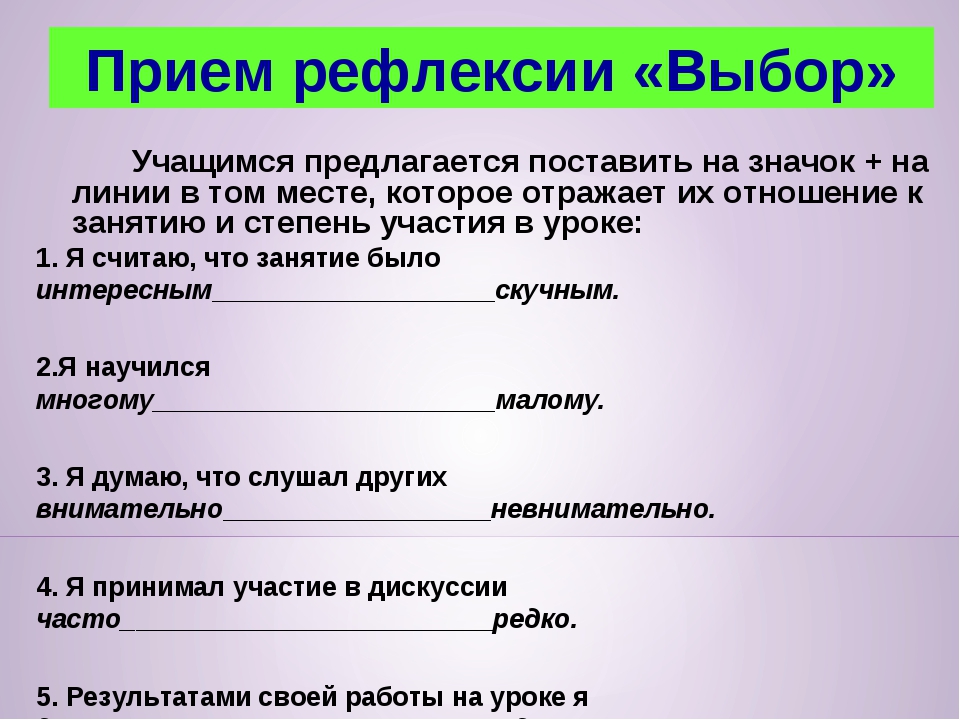 В исследовании есть всегда такая установка.
В исследовании есть всегда такая установка. Заставляли. Человека, который уклонялся от собрания в своём городе, могли лишить гражданства и имущества заодно. А умение говорить и убеждать было колоссальнейшей задачей. И на этом основании, ещё до Аристотеля, конечно, возникла формальная логика. Аристотель это суммировал. И не просто как отражение некоторой всеобщей, всегда существующей действительности. А, скажем, сейчас, если вы посмотрите формальную логику, увидите, что то, что сделал Аристотель, по объёму занимает всего одну десятую часть, даже меньше. Сейчас возникли модальные, многозначные логики и так далее.
Заставляли. Человека, который уклонялся от собрания в своём городе, могли лишить гражданства и имущества заодно. А умение говорить и убеждать было колоссальнейшей задачей. И на этом основании, ещё до Аристотеля, конечно, возникла формальная логика. Аристотель это суммировал. И не просто как отражение некоторой всеобщей, всегда существующей действительности. А, скажем, сейчас, если вы посмотрите формальную логику, увидите, что то, что сделал Аристотель, по объёму занимает всего одну десятую часть, даже меньше. Сейчас возникли модальные, многозначные логики и так далее.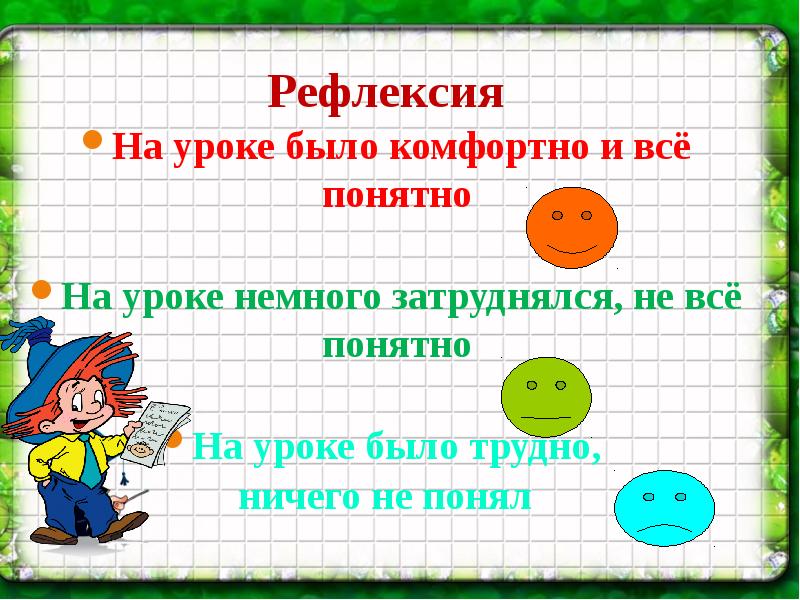 Не было потому, что не было Никиты Глебовича две тысячи лет назад, который вот это все не сделал, не сконструировал. И тем самым не дал возможность формировать все это у всех остальных. Или не было, потому что и не могло этого быть.
Не было потому, что не было Никиты Глебовича две тысячи лет назад, который вот это все не сделал, не сконструировал. И тем самым не дал возможность формировать все это у всех остальных. Или не было, потому что и не могло этого быть.