Марина цветаева и ее сын: Короткая жизнь и яркая судьба сына Марины Цветаевой
Короткая жизнь и яркая судьба сына Марины Цветаевой
Георгий Эфрон – не просто «сын поэта Марины Цветаевой», а самостоятельное явление в отечественной культуре. Проживший ничтожно мало, не успевший оставить после себя запланированных произведений, не совершивший каких-либо иных подвигов, он тем не менее пользуется неизменным вниманием историков и литературоведов, а также обычных любителей книг – тех, кто любит хороший слог и нетривиальные суждения о жизни.
Георгий родился 1 февраля 1925 года, в полдень, в воскресенье. Для родителей – Марины Цветаевой и Сергея Эфрона – это был долгожданный, вымечтанный сын, третий ребенок супругов (младшая дочь Цветаевой Ирина умерла в Москве в 1920 году).
Цветаева с дочерью Ариадной (Алей)
Отец, Сергей Эфрон, отмечал: «Моего ничего нет… Вылитый Марин Цветаев!» С самого рождения мальчик получил от матери имя Мур, которое так и закрепилось за ним.
К. Родзевич
Не обошлось без некоторых скандальных слухов – молва приписывала отцовство Константину Родзевичу, с которым Цветаева некоторое время находилась в близких отношениях. Тем не менее сам Родзевич никогда не признавал себя отцом Мура, а Цветаева однозначно давала понять, что Георгий – сын ее мужа Сергея.
Ко времени рождения младшего Эфрона семья жила в эмиграции в Чехии, куда переехала после гражданской войны на родине. Тем не менее уже осенью 1925 года Марина с детьми – Ариадной и маленьким Муром переезжает из Праги в Париж, где Мур проведет свое детство и сформируется как личность. Отец остался на некоторое время в Чехии, где работал в университете.
М. Цветаева с сыном
Цветаева с сыном
Мур рос белокурым «херувимчиком» — пухленьким мальчиком с высоким лбом и выразительными синими глазами. Цветаева обожала сына – это отмечали все, кому доводилось общаться с их семьей. В ее дневниках записям о сыне, о его занятиях, склонностях, привязанностях, уделено огромное количество страниц.
Георгий Эфрон
Возможно, именно большое сходство между Цветаевой и ее сыном породило такую глубокую привязанность, доходящую до преклонения. Сам же мальчик держался с матерью скорее сдержанно, друзья отмечали порой холодность и резкость Мура по отношению к матери. Он обращался к ней по имени – «Марина Ивановна» и так же называл ее в разговоре – что не выглядело неестественно, в кругу знакомых признавали, что слово «мама» от него вызывало бы куда больший диссонанс.
Мур (Г.С. Эфрон)
Мур, как и его сестра Ариадна, с детства вел дневники, но большинство из них были утеряны. Сохранились записи, в которых 16-летний Георгий признается, что избегает общения, потому что хочет быть интересным людям не как «сын Марины Ивановны, а как сам «Георгий Сергеевич». Отец в жизни мальчика занимал мало места, они месяцами не виделись, из-за возникшей холодности в отношениях между Цветаевой и Ариадной сестра так же отдалилась, занятая своей жизнью, – поэтому настоящей семьей можно было назвать только их двоих – Марину и ее Мура.
Отец – С.Я. Эфрон
Когда Муру исполнилось 14, он впервые приехал на родину его родителей, которая теперь носила название СССР. Цветаева долго не могла принять это решение, но все же поехала – за мужем, который вел свои дела с советскими силовыми структурами, отчего в Париже, в эмигрантской среде, к Эфронам возникло неоднозначное, неопределенное отношение. Все это Мур чувствовал отчетливо, с проницательностью подростка и с восприятием умного, начитанного, думающего человека.
Все это Мур чувствовал отчетливо, с проницательностью подростка и с восприятием умного, начитанного, думающего человека.
В дневниках он упоминает о своей неспособности быстро устанавливать крепкие дружеские связи – держась отчужденно, не допуская к сокровенным мыслям и переживаниям никого, ни родных, ни приятелей. Мура постоянно преследовало состояние «распада, разлада», вызванное как переездами, так и внутрисемейными проблемами – отношения между Цветаевой и ее мужем все детство Георгия оставались сложными. Одним из немногих близких Муру друзей был Вадим Сикорский, «Валя», в будущем – поэт, прозаик и переводчик. Именно ему и его семье довелось принять Георгия в Елабуге, в страшный день самоубийства его матери, которое произошло, когда Муру было шестнадцать.
Вадим Сикорский, друг Мура
После похорон Цветаевой Мура отправили сначала в Чистопольский дом-интернат, а затем, после недолгого пребывания в Москве, в эвакуацию в Ташкент.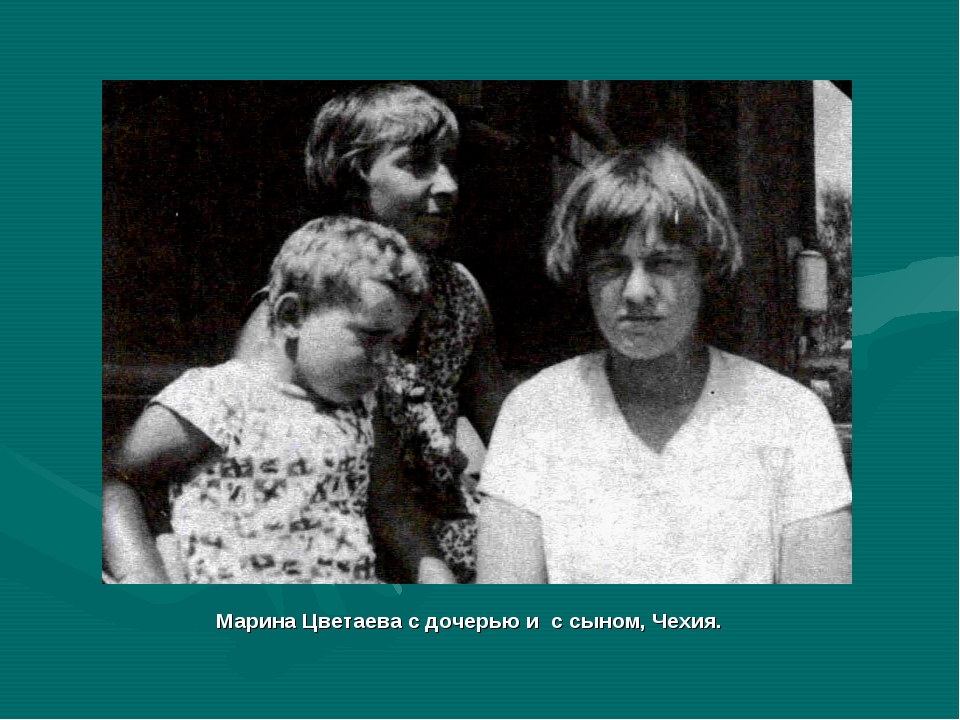 Следующие годы оказались наполнены постоянным недоеданием, неустроенностью быта, неопределенностью дальнейшей судьбы. Отец был расстрелян, сестра находилась под арестом, родственники – далеко. Жизнь Георгия скрашивали знакомства с литераторами и поэтами – прежде всего с Ахматовой, с которой он на некоторое время сблизился и о которой с большим уважением отзывался в дневнике, – и редкие письма, которые наряду с деньгами присылали тетя Лили (Елизавета Яковлевна Эфрон) и гражданский муж сестры Муля (Самуил Давидович Гуревич).
Следующие годы оказались наполнены постоянным недоеданием, неустроенностью быта, неопределенностью дальнейшей судьбы. Отец был расстрелян, сестра находилась под арестом, родственники – далеко. Жизнь Георгия скрашивали знакомства с литераторами и поэтами – прежде всего с Ахматовой, с которой он на некоторое время сблизился и о которой с большим уважением отзывался в дневнике, – и редкие письма, которые наряду с деньгами присылали тетя Лили (Елизавета Яковлевна Эфрон) и гражданский муж сестры Муля (Самуил Давидович Гуревич).
С.Д. Гуревич и Е.Я. Эфрон
В 1943 году Муру удалось приехать в Москву, поступить в литературный институт. К сочинительству он испытывал стремление с детства – начиная писать романы на русском и французском языках. Но учеба в литинституте не предоставляла отсрочки от армии, и окончив первый курс, Георгий Эфрон был призван на службу. Как сын репрессированного, Мур служил сначала в штрафбатальоне, отмечая в письмах родным, что чувствует себя подавленно от среды, от вечной брани, от обсуждения тюремной жизни.
«На лоб вся надежда» – писала о сыне Марина Цветаева, и невозможно точно сказать, сбылась ли эта надежда или же ей помешал хаос и неопределенность сначала эмигрантской среды, потом возвращенческой неустроенности, репрессий, потом войны. На долю Георгия Эфрона за 19 лет его жизни выпало больше боли и трагедии, чем принимают на себя герои художественных произведений, бесчисленное количество которых прочитал и еще мог бы, возможно, написать он сам. Судьба Мура заслуживает звания «несложившейся», но тем не менее свое собственное место в русской культуре он успел заслужить – не просто как сын Марины Ивановны, а как отдельная личность, чей взгляд на свое время и свое окружение нельзя переоценить.
Источник: Культурология.РФ
Читайте также:
«…Зачем моему ребенку – такая судьбина?». Об Ариадне Эфрон
Сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон погиб, освобождая Беларусь — Российская газета
Наступивший год — особенный для россиян и белорусов. 70 лет назад, летом 1944 года, Советская Белоруссия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Фронт покатился дальше, к немецким границам, оставляя на полях жестоких сражений множество безымянных холмиков — могил советских солдат. Тайны многих из них до сих пор не разгаданы. Так, в одном из боев под Оршей в 1944 году был тяжело ранен единственный сын русского поэта Марины Цветаевой — Георгий Эфрон. Но по пути в госпиталь его следы бесследно теряются. Корреспонденты «СОЮЗа» решили пройти тропами исследователей этой трагической истории…
Отпрыск гения
Жора Эфрон прожил 19 лет и погиб смертью храбрых. «Мальчиков нужно баловать, — им, может быть, на войну придется», — пророчествовала Марина Цветаева, едва сыну исполнился.
Георгий Эфрон-младший родился в 1925 году в эмиграции, и отпрыска гения ждала короткая и очень драматичная судьба. Появился на свет в Чехии, детство и юность провел во Франции. В 14 лет впервые попал на свою историческую родину, в Москву. Потом была Елабуга, эвакуация в Ташкент, возращение в Москву и мобилизация на Белорусский фронт…
«…Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придет обязательно; я верю в свою судьбу…» — напишет Георгий своей сестре Ариадне 17 июня 1944 года — за месяц до гибели.
Нет, не вынесла.
Сегодня в Браславском районе Беларуси на погосте между двумя деревеньками — Друйкой и Струневщиной, что неподалеку от латвийской границы, — за скромной металлической оградкой одиноко стоит черный мраморный обелиск с солдатской звездой и надписью: «Эфрон Георгий Сергеевич, погиб в июле 1944 г.». Могила ухожена — за ней присматривают школьники из соседнего села Чернево. Но исследователей до сих пор мучит вопрос: действительно ли под могильной плитой покоятся останки сына великого русского поэта?
«Мой сын не в меня. ..»
..»
Эти слова у Марины Ивановны вырвались в письме к одной из своих подруг: «Мой сын ведет себя в моем чреве исключительно тихо, из чего заключаю, что опять не в меня!»
Цветаева, а за ней и все домашние стали называть мальчика Мур. Мать отслеживала едва ли не каждый день его жизни. О своем трехлетнем Гоше она пишет: «Удивительно взрослая речь, чудно владеет словом. Мужественен, любит говорить не как дети…» В восемь: «Очень зрел. Очень критичен…»
В шесть лет Мур уже читает и пишет. Французским владеет так же хорошо, как и русским. Учит немецкий. Мечтает посвятить жизнь, как он выразился, «пропагандированию» французской культуры в России и русской — во Франции.
Накануне войны репрессируют его отца, Сергея Эфрона, и сестру Ариадну. Отца расстреляют. Они с матерью остаются одни. Эвакуация в Елабугу. В августе 1941-го — самоубийство матери.
В архиве Елабужского ЗАГСа сохранился документ — письменная просьба пятнадцатилетнего Георгия. Юноша просит разрешить «похороны матери, Цветаевой Марины Ивановны, умершей тридцать первого августа 1941 года в результате асфиксии (суицид)».
Он страшно тоскует. В его дневнике от 19 сентября 1941 года есть такая запись: «Льет дождь. Думаю купить сапоги. Грязь страшная. Страшно все надоело. Что сейчас бы делал с мамой?.. Она совершенно правильно поступила, дальше было бы позорное существование…» Эфрон-младший будет смертельно ранен ровно через три года.
Из Москвы в Москву через Ташкент
Спустя пару месяцев Георгий из Елабуги возвращается в Москву. Его не прописывают. Не помог даже писатель Илья Эренбург, который в ответ на просьбу помочь, «успокаивает»: тебя отправят в Среднюю Азию. И, хотя подростка все же потом прописывают у тетки Анастасии, совсем скоро его вместе с тысячами других москвичей отправляют в Ташкент.
Как жил, он фиксирует в дневнике и письмах: «Добился пропуска в столовую Литфонда, теперь я включен на «спецснабжение»… Дали мыло и две пары носков, 1,5 литра хлопкового масла и еще обещают — и ни черта за это платить не приходится…» Он ходит в школу, знакомится с Ахматовой, которая, по его словам, «окружена неустанными заботами и почтением всех, особенно Алексея Толстого». Читает «Золя, Чехова и, конечно, любимого Малларме и компанию (Бодлер, Верлен, Валери, Готье)».
Читает «Золя, Чехова и, конечно, любимого Малларме и компанию (Бодлер, Верлен, Валери, Готье)».
Окончив осенью 1943 года школу, Мур возвращается в Москву, где в ноябре поступает в Литературный институт.
А вскоре приходит повестка на фронт, ведь студентам Литинститута броня не полагается. Знакомые вспоминают: последний свой Новый год — 1944-й — Мур встречал в семье переводчиков Буровых, был весел, оживлен, много шутил…
На фронт он попадет не сразу: «26-го февраля меня призвали в армию, — пишет он весной 1944 года. — Три месяца пробыл в запасном полку под Москвой, причем ездил в Рязанскую область на лесозаготовки. В конце мая уехал с маршевой ротой на фронт, где и нахожусь сейчас. Боев еще не было; царит предгрозовое затишье в ожидании огромных сражений и битв…»
А вот запись спустя месяц: «Лишь здесь, на фронте, я увидел каких-то сверхъестественных здоровяков, каких-то румяных гигантов-молодцов из русских сказок, богатырей-силачей. Около нас живут разведчики, и они-то все, как на подбор, — получают особое питание и особые льготы, но зато и профессия их опасная — доставлять «языков». Вообще всех этих молодцов трудно отличить друг от друга; редко где я видел столько людей, как две капли воды схожих между собой…»
Вообще всех этих молодцов трудно отличить друг от друга; редко где я видел столько людей, как две капли воды схожих между собой…»
«Атмосфера, вообще говоря, грозовая, — пишет он в одном из последних писем, — чувствуется, что стоишь на пороге крупных сражений. Если мне доведется участвовать в наших ударах, то я пойду автоматчиком: я числюсь в автоматном отделении и ношу автомат. Роль автоматчиков почетна и несложна: они просто-напросто идут впереди и палят во врага из своего оружия на ближнем расстоянии… Я совершенно спокойно смотрю на перспективу идти в атаку с автоматом, хотя мне никогда до сих пор не приходилось иметь дела ни с автоматами, ни с атаками… Все чувствуют, что вот-вот «начнется…»
Видимо, в одной из первых своих атак где-то между Оршей и Витебском Мур и поймал фашистскую пулю. Далее никаких сведений о нем нет, он просто исчез. Вроде бы его после ранения отправили в медсанбат, но он туда так и не прибыл…
В списках не значится
Сестра Ариадна Эфрон и тетя Анастасия Цветаева примутся за поиски Мура. Отправят десятки запросов в Наркомат обороны. Им сообщат, что Эфрон не числится ни в списках раненых, ни в списках убитых, ни в списках пропавших без вести.
Отправят десятки запросов в Наркомат обороны. Им сообщат, что Эфрон не числится ни в списках раненых, ни в списках убитых, ни в списках пропавших без вести.
В 70-е годы прошлого века судьбой Георгия заинтересуется военный журналист полковник Станислав Грибанов. После продолжительных поисков в военных архивах ему удается установить,что 27 мая 1944 года Георгий Эфрон был зачислен в состав 7-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии. В книге учета Грибанов обнаружит запись: «Красноармеец Георгий Эфрон убыл в медсанбат по ранению 7.7.1944 г.» И все…
Тогда Грибанов начнет поиски людей, ходивших с Муром в атаки. И находит. Их отзыв о погибшем юноше был таков: «В бою Георгий был бесстрашен…» Но как и при каких обстоятельствах он погиб — не знал никто. Мясорубка войны уничтожила все следы.
Из белорусской деревни Друйки Грибанов однажды получает письмо, что на территории сельсовета была Могила Неизвестного Солдата, погибшего 7 июля 1944 года, и, возможно, именно в ней похоронен сын Цветаевой.
Свое расследование полковник опубликовал в журнале «Неман» в 1975 году. Он писал: «Деревня Друйка… Это ведь там в последнюю атаку поднялся Георгий! Умер солдат от ран, поставили ему санитары временный фанерный треугольник со звездой, и ушел полк на запад… А могилу люди сохранили…»
Однако Грибанов считает нужным добавить: «Может статься, что и не Георгий в ней — другой солдат».
Спустя три года после публикации автор получил письмо из Браславского военкомата: «Уважаемый товарищ Грибанов, — писал военком, — по Вашей просьбе высылаю фотографии памятника, установленного на месте захоронения советских воинов и в их числе Г. Эфрона. Имена остальных воинов нам неизвестны».
Одна из многочисленных версий обстоятельств гибели Эфрона принадлежит директору Браславского музея Александру Пантелейко. В своей книге «Память. Браславский район» Пантелейко высказал предположение: «Во время сбора материала для книги мне удалось глубже проникнуть в обстоятельства последних военных дней Георгия Эфрона. Обоз с ранеными могли разбомбить в пути и т.д. На основании архивных документов было установлено, что в 437-м полку восемь человек пропали без вести… Может, Эфрон в числе этих восьми?..»
Обоз с ранеными могли разбомбить в пути и т.д. На основании архивных документов было установлено, что в 437-м полку восемь человек пропали без вести… Может, Эфрон в числе этих восьми?..»
Мифы и догадки при свете фактов. К новым материалам о Марине Цветаевой
- ПОЭТ И СЕМЬЯ
Прошел год после выхода в свет «Дневников» Георгия Эфрона. Что они вызывают к серьезному разговору, стало ясно сразу. В моем случае – к разговору о Марине Цветаевой, а не о нем самом. Потому что за себя говорит сам Мур (так домашние называли Георгия). За себя, каким он был, каким, взрослея и меняясь, он тем не менее оставался в 1940 – 1943 годы. И комментарии здесь излишни, и хотя бы в память о его матери стоит от них воздержаться. А как бы он преобразился (если предположить такую перспективу), проживи он дольше, можно – с той или иной долей вероятности – только гадать, а это занятие способно увлечь далеко не каждого. Во всяком случае, меня оно не увлекает.
Вообще стоит, думаю, прояснить вопрос нашего отношения к эпистолярному, очерковому, дневниковому наследию членов цветаевской семьи и ее окружения. Будут ли это «Записки добровольца» или рассказы Сергея Эфрона, его малоизвестные письма к сестрам и матери, будет ли это переписка Анастасии Цветаевой с Ариадной Эфрон или том из серии «Неизданное» – «Семья: история в письмах», будут ли это письма, а теперь вот и «Дневники» Георгия Эфрона, – все эти (и многие другие) тексты, как и стоящие за ними люди, вызывают сегодня такой интерес и такое внимание главным образом потому, что они связаны с именем Марины Цветаевой. И нет здесь никакого умаления личностей этих людей, их судеб и их дел. Это просто факт, вполне естественный и очевидный, и его надо, по-моему, зафиксировав, принять.
Что и делает, к примеру, Елена Коркина, когда в предисловии к «Запискам добровольца» пишет: «Задача предисловия – представить читателю автора, и чем портрет его разностороннее, тем больше оснований для читательского доверия к книге. Потому начнем с главного и определяющего: Сергей Эфрон – избранник и спутник жизни Марины Цветаевой»
Потому начнем с главного и определяющего: Сергей Эфрон – избранник и спутник жизни Марины Цветаевой»
. И только вслед за этим будет вкратце рассказано о семье Эфронов-Дурново, о революционно-террористической деятельности родителей, о трагической гибели матери и брата, обо всем том, что сформировало личность Сергея Яковлевича и во многом предопределило его судьбу, которую в чем-то вольно, а в чем-то вынужденно разделила с ним его жена. И предпринято издание, предложена книга тысячам читателей в силу этого «главного и определяющего» обстоятельства: все, связанное с Мариной Цветаевой, все, добавляющее еще один и всегда не лишний штрих к ее портрету, обречено на большую, не ограниченную номинальным тиражом книги, аудиторию. Другими словами, без цветаевского фона и сопровождения (а в книгу включены еще и стихотворения Цветаевой, обращенные к мужу) литературно-публицистическое наследие Сергея Эфрона осталось бы малозамеченным, осталось бы внутри своего времени, на страницах старых эмигрантских журналов и, даже опубликованное теперь по каким-то соображениям отдельной книжкой, вряд ли вызвало бы сколько-нибудь заинтересованную читательскую реакцию.
По существу, так же обстоит дело и с «Дневниками» Георгия Эфрона. Что и констатируют в предисловии издатели – Елена Коркина и Вероника Лосская: «Дневники Георгия Эфрона в первую очередь привлекут к себе внимание потому, что он был сыном Марины Цветаевой и в последние два года ее жизни единственным и самым близким свидетелем и участником ее повседневного существования»3
. А также, добавим от себя очевидное, – ее добровольного ухода из жизни. Далее авторы предисловия совершенно справедливо скажут о двух других причинах ценности этого свидетельства времени, человеческой психологии и судьбы. Но и первой достаточно было бы для публикации «Дневников» и чрезвычайно интенсивного к ним интереса. Собственно, ею, этой причиной, и обусловлено, как и в случае с «Записками добровольца», само издание книги. И именно этой стороной я и ограничусь, не без оснований считая, что сын своим не подлежащим сомнению свидетельством вносит в сложившийся в нынешнем восприятии образ матери, в ее предсмертие, в посмертную ее судьбу весьма существенные если не коррективы, то, во всяком случае, уточнения и добавления. Задавшись же целью выявить и осмыслить именно их, то есть переориентировать эгоцентрический этот документ на другого человека, сделать центром внимания мать (Цветаеву), а не сына (Мура), я позволю себе воздержаться от сколько-нибудь развернутых и аргументированных ответов на напрашивающиеся вопросы о том, вызывает ли автор дневников наше сочувствие (вызывает, разумеется), дает ли он основания для негодования и, с позволения сказать, оторопи (разумеется, дает). Тем более воздержусь, что этим вопросам, касающимся личности Георгия Эфрона, посвящены опубликованные по свежему следу издания статьи и рецензии.
Задавшись же целью выявить и осмыслить именно их, то есть переориентировать эгоцентрический этот документ на другого человека, сделать центром внимания мать (Цветаеву), а не сына (Мура), я позволю себе воздержаться от сколько-нибудь развернутых и аргументированных ответов на напрашивающиеся вопросы о том, вызывает ли автор дневников наше сочувствие (вызывает, разумеется), дает ли он основания для негодования и, с позволения сказать, оторопи (разумеется, дает). Тем более воздержусь, что этим вопросам, касающимся личности Георгия Эфрона, посвящены опубликованные по свежему следу издания статьи и рецензии.
Замечу только, что постановочно-точная позиция двух вышеназванных предисловий если не исключение, то никак и не общепризнанное правило. К сожалению, нередко в разговорах и записях о семейно-близком окружении Марины Цветаевой – о людях, которым выпала редчайшая привилегия (осознанная ими или нет) сопричастности ее жизни и столь же редкостное счастье (трудное и обычно не ценимое) повседневной близости к гению, о людях, чьи имена увековечились этой близостью, – превалирует отстаивание исключительности всех и каждого чуть ли не в ущерб самой Цветаевой, чуть ли не в ревниво-соревновательном сопоставлении.
Приведу только один пример: именины Анастасии Цветаевой, отмечаемые в Борисоглебском Доме Марины Цветаевой. Попала на них два года назад и долго еще не смогу забыть пародийно-жалких усилий организаторов этого вечера, направленных на то, чтобы утвердить Анастасию Ивановну в образе великого и мудрого духовного пастыря, некоего собирателя и целителя заблудших и страждущих, в образе смиренной христианки (в отличие, разумеется, от старшей сестры), достойной чуть ли не церковной канонизации.
Словом, суета сует и всяческая суета…
- ПОЭТ И ТОЛПА
Вернемся, однако, к «Дневникам» Георгия Эфрона. Но прежде чем заняться непосредственно ими, обратим внимание на кричащий разнобой мнений относительно сегодняшнего цветаеведения, и сделаем это для того, чтобы в самых беглых чертах показать, на какую почву лег невольный сыновний «комментарий» к судьбе матери.
Вот мнение Дмитрия Быкова, вынесенное в подзаголовок его статьи и потом развернутое в самом ее тексте: «Никогда еще – кроме разве последних двух лет земного существования – не было Цветаевой так плохо, как сейчас. Никогда. Во-первых, подавляющее большинство публикаций так или иначе посвящено особенностям цветаевской сексуальной ориентации. Видимо, ни в каком другом качестве поэт сегодня не способен заинтересовать широкую аудиторию…». И еще один упрек бросает Д. Быков, на сей раз тем, «кто утверждает, что Цветаева была плохой матерью». Ибо «мать, вырастившая такого ребенка (речь идет об Ариадне Эфрон. – Т. Г.), не знает себе равных».
Никогда. Во-первых, подавляющее большинство публикаций так или иначе посвящено особенностям цветаевской сексуальной ориентации. Видимо, ни в каком другом качестве поэт сегодня не способен заинтересовать широкую аудиторию…». И еще один упрек бросает Д. Быков, на сей раз тем, «кто утверждает, что Цветаева была плохой матерью». Ибо «мать, вырастившая такого ребенка (речь идет об Ариадне Эфрон. – Т. Г.), не знает себе равных».
А вот прямо противоположное мнение Маргариты Духаниной: «Не надо обладать особой наблюдательностью, чтобы заметить: и у литературоведов, и у читателей существует настоящий культ Цветаевой и увлечение ее творчеством почти всегда переходит в увлечение личностью поэта <…> Но ведь земной, жизненный путь любого человека не обходится без проб и ошибок, и нельзя возводить этот путь в абсолют – обстоятельство, в случае с Цветаевой чаще всего неучитываемое. Благими намерениями и усилиями многочисленных цветаеведов личность Цветаевой превращена в «благоуханную легенду»<…> Традицию эту заложили близкие – А. С. Эфрон, А. И. Цветаева; их субъективизм абсолютно понятен и по-человечески симпатичен. Но почему и зачем «благоуханные легенды» создают историки и филологи, претендующие на некую долю объективности и беспристрастия?»
С. Эфрон, А. И. Цветаева; их субъективизм абсолютно понятен и по-человечески симпатичен. Но почему и зачем «благоуханные легенды» создают историки и филологи, претендующие на некую долю объективности и беспристрастия?»
Такая вот амплитуда колебаний… И прямо непонятно, что с нею делать. Особенно с «благоуханной легендой». Попробую все же разобраться.
И постараюсь не быть категоричной, не стану, например, утверждать, что никто не «возводит в абсолют» жизнь, поэзию и сам образ Марины Цветаевой. Может быть, кто-нибудь так и поступает. Но это никак не Анна Саакянц, не Виктория Швейцер, не Ирма Кудрова, не Елена Коркина, не Ирина Шевеленко, а между тем здесь перечислены имена самых, пожалуй, известных и авторитетных цветаеведов. Но для М. Духаниной дело, думаю, не в именах и не в частных случаях (хотя она и выражает свое несогласие с концепцией книги В. Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой»): у нее есть своя путеводная мысль, своя нравственная (высоконравственная?) установка, которую она стремится привить всем вообще «историкам и филологам». А именно – она ратует за то, чтобы к Цветаевой (равно как и к другим гениям) подходили, как к «любому человеку», не делали бы для нее исключения как для некоего «небожителя». Но, напротив, найдя какой-нибудь «порок» (нечто «черное») не списывали бы его на счет особого внутреннего устройства Поэта, а публично пригвоздили бы ее к позорному столбу.
А именно – она ратует за то, чтобы к Цветаевой (равно как и к другим гениям) подходили, как к «любому человеку», не делали бы для нее исключения как для некоего «небожителя». Но, напротив, найдя какой-нибудь «порок» (нечто «черное») не списывали бы его на счет особого внутреннего устройства Поэта, а публично пригвоздили бы ее к позорному столбу.
Не знаю, как Духаниной, а мне в связи с этим требованием вспоминаются бессмертные слова Пушкина: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы, – иначе». И вспоминаются эти пушкинские слова тем настойчивее, что Цветаева, в своем неиссякаемом желании быть понятой, оставила нам во множестве «исповеди и записи».
Но, судя по всему, автору новомирской статьи такие аналогии в голову не приходили, иначе она не закончила бы свои размышления нижеследующим выразительным пассажем: «Конечно, каждый пишущий (и вообще творческий) человек (это в связи с Цветаевой – «каждый пишущий и вообще творческий человек»? – Т. Г.) волен выбирать сам (но если речь все-таки о Поэтах, а не о каждом-всяком, то как быть с тютчевским «Поэт всесилен, как стихия, / Не властен лишь в себе самом», то есть выбирать-то как раз не волен. – Т. Г.) орфеем ли ему быть, а потом уже – человеком или наоборот («Честнее с головой Орфеевой – менады!», чем такая постановка вопроса. – Т. Г.). И в нашем праве решать, будем ли мы относиться к Поэтам как к небожителям, которым все и всегда дозволено, или все-таки как к прежде всего людям. Нам безумно дорого то, что дарует их голос (разве что без-умно. – Т. Г.). Но часто мы не помним, какой монетой (? – Т. Г.) бывает оплачен их выбор. И может быть, если мы, именно мы (ничем не обеспеченная настойчивость: почему, собственно, именно мы, и кто это <мы>, и почему такой эксперимент предпринимается именно в связи с Цветаевой? – Т. Г.), не скажем однажды, что великие законы мира (Божьи и человеческие) все-таки одинаковы для всех, поэты так и будут платить – собственной искалеченной жизнью».
Г.) волен выбирать сам (но если речь все-таки о Поэтах, а не о каждом-всяком, то как быть с тютчевским «Поэт всесилен, как стихия, / Не властен лишь в себе самом», то есть выбирать-то как раз не волен. – Т. Г.) орфеем ли ему быть, а потом уже – человеком или наоборот («Честнее с головой Орфеевой – менады!», чем такая постановка вопроса. – Т. Г.). И в нашем праве решать, будем ли мы относиться к Поэтам как к небожителям, которым все и всегда дозволено, или все-таки как к прежде всего людям. Нам безумно дорого то, что дарует их голос (разве что без-умно. – Т. Г.). Но часто мы не помним, какой монетой (? – Т. Г.) бывает оплачен их выбор. И может быть, если мы, именно мы (ничем не обеспеченная настойчивость: почему, собственно, именно мы, и кто это <мы>, и почему такой эксперимент предпринимается именно в связи с Цветаевой? – Т. Г.), не скажем однажды, что великие законы мира (Божьи и человеческие) все-таки одинаковы для всех, поэты так и будут платить – собственной искалеченной жизнью».
М. Духанина решительно отказывается, как мы видим, понимать, что «собственной искалеченной жизнью» (порой и не только собственной), а не какой-нибудь другой «монетой» платят поэты за то «безумно для нас дорогое», «что дарует их голос», и если «мы» – это любящие и понимающие поэзию, если «именно мы» – это люди, черпающие в поэзии незаменимую духовную пищу, то, вознамерившись напоминать поэтам расхожие нравственные истины и законы, мы вполне заслужим, полагаю, горький цветаевский упрек: «лизатели сливок». Имею, впрочем, основания думать, что духанинское «мы» совсем другое…
Вообще же – за полной несостоятельностью благостных нравоучений, обращенных в статье к великим Поэтам, нравоучений, которые никак не пристали, по-моему, «историкам и филологам», а разве что обывателям, – на них как-то даже неловко возражать.
Вместо этого стоит представить себе Лермонтова, например, читающего эту новомирскую статью.
Лермонтова, который в свои пятнадцать лет знал уже, как властен великий искус творчества, как победительно распоряжается он поэтом, уводя его на путь «страстей», «заблуждений», «дикого волненья» и «грешных песен».
Лермонтова, который в первой (1829 год) из трех своих «Молитв» («Не обвиняй меня, всесильный…») просит Бога либо не осуждать его за «грех» творчества, либо освободить от поэтического дара:
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.
Лермонтова, и рядом с ним Блока, который в своем обращении к Музе дал всем бывшим, настоящим и будущим «историкам и филологам» неотменимый, казалось бы, ответ на грошовые душеспасительные их наставления. Ибо Блок, как Цветаева и Лермонтов, как Пушкин и Тютчев, знал, не хуже всевозможных наставников знал «великие законы мира (Божьи и человеческие)», а кроме того и сверх того, он знал «мученье и ад», даруемые Музой, «мученье и ад», которые Поэт не променяет добровольно (точнее, своевольно) на «тесный путь спасенья», потому хотя бы, что не в его это воле:
Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.
Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами –
Все проклятье своей красоты?
Один Гоголь попробовал променять, поверив, что такова воля Божья. И отрекся от писательства. И, отрекшись, сжег все, к тому времени написанное. И лишь затем понял, чью волю он исполнил: «Как лукавый силен! Вот он до чего меня довел». А потом стал беспричинно умирать – «тесный путь спасенья» оказался равен уходу из жизни. Обыкновенным человеком – «как все» – он стать не мог.
Забавно, однако, что Духанина считает Лермонтова своим союзником – против Цветаевой. И в подтверждение ссылается на ту же «Молитву», находя ее звеном в «круговой поруке добра» истинных поэтов. Она утверждает, что сама «Цветаева этого не делает», ибо «это разрушило бы ее концепцию: «Найдите мне поэта без Пугачева! Без Самозванца! Без корсиканца! – внутри»9. Вероятно, лермонтовского Демона (внутри!) Духаниной мало. Да и «Молитву», похоже, она прочитала по-своему и совсем не так, как написал ее юный гений.
Стоит, полагаю, ограничиться сказанным и подвести предварительный итог: статья М. Духаниной «Нецелованный крест» (к которой мне еще придется вернуться в связи с Георгием Эфроном и его «Дневниками»; собственно я и уделила ей здесь столько внимания потому, что она, будучи шире темы, заданной «Дневниками», находится все-таки внутри нее) опровергает выдвинутый в ней же тезис о том, как преувеличенно хороша сегодняшняя судьба Марины Цветаевой. Но насколько плохо Цветаевой в наши дни, она одна показать не в состоянии. Тут придется обратиться к другому «филологу».
В N 10 газеты «Аргументы и факты» (Международное издание) за 2004 год под интригующим названием «Ее спас Михалков и предал Кашпировский» помещена беседа с украинской писательницей Валерией Врублевской, женой бывшего помощника бывшего «первого секретаря украинской компартии Щербицкого». Незадолго до публикации она отметила свое 65-летие и вот теперь бойко рассуждала о том, как «черная сила» Кашпировского, который не смог ее «согнуть», наслала на нее порчу на целых шесть лет; о том, что советская власть, «хоть говорила правду о капитализме», а «миллионы людей»»бросала за решетку», ибо – «что же власть должна делать с теми, кто выступал против существующего строя?»; рассуждала и о том, что «нищие культуру не создают», и сетовала в прямой связи с этим – «у нас нет даже культуры быта…». Словом, беседа удалась на славу.
А под самый конец, как оно и водится, была припасена сенсация с подзаголовком «Тайна Цветаевой». Тут Врублевская особенно блеснула широтой своих взглядов, мудростью, а также душевной и психологической тонкостью. В связи с новой своей пьесой «Окаянные женщины» Врублевская сказала (а газета опубликовала!), «что поэту позволено то, что не разрешено обычному человеку, потому что он знает о жизни больше других. Марина Цветаева, например, вступала в интимные отношения с женщинами. Очевидно, в ее жизни был и инцест. Сын ее страшно ненавидел. Мне кажется, только изнасилованный мальчик может так ненавидеть мать. Он не называл ее мамой, только Мариной Ивановной. Когда же она повесилась, сын сказал: «Она правильно сделала. У нее не было другого выхода»».
Чем не «благоуханная легенда»?!
Впрочем, «благоуханность» такого свойства в приличном обществе принято игнорировать. И я прекрасно это знаю. Но я знаю также и то, что гнусную эту клевету прочитали и запомнили (скорее всего, поверив и даже порадовавшись: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы!») миллионы читателей газеты, которая вопреки своему названию «фактом» сочла бессовестный оговор, а «аргументом» жеманное «мне кажется» пожилой дамы, вздыхающей о своей номенклатурной молодости и былой привлекательности (не случайно материал сопровожден фотографией Врублевской времен «пика ее славы», фотографией, сделанной на фоне теплохода «Товарищ», приятно, по всей видимости, напоминающего ей старую добрую советскую власть).
Я знаю также, что бесконечные сплетни вокруг имени Цветаевой падают на благодатную почву и в среде филологов-преподавателей. Один такой филолог (тоже немолодая уже дама), заходящая в аудиторию с лекционным курсом «Литература русского зарубежья», свое отношение к Цветаевой («безнравственная женщина») простирает так далеко, что отказывается читать курсовые и дипломные работы о ее творчестве. Такая вот высоконравственная обструкция, и о ней мне рассказывали студенты одного ереванского вуза, где заслуженная эта дама преподает уже много десятилетий. Впрочем, так ли уж велика ее вина в свете «благоуханных легенд», творимых на родине Цветаевой?
А еще я знаю (самой довелось слышать), что Роман Виктюк, который, «по слухам», дошедшим до газеты, собирался поставить «Окаянных женщин», еще в конце 1990-х годов перед многомиллионной телеаудиторией говорил, что ему необязательно точно знать и уж тем более доказывать реальность кровосмесительной связи Цветаевой с сыном, – ему, как художнику, достаточно (и, вероятно, нетрудно) предположить нечто подобное, чтобы чувствовать себя вправе поставить соответствующий спектакль. Кому же, как не ему, объединиться с Валерией Врублевской в реализации своих «художнических» прав?
А факты? Побоку факты! Ведь главное – покрасоваться в роли раскрывателя самых последних тайн (не беда, что придуманных!), щегольнуть своим всепониманием, да еще и сдобрить клевету лицемерным «поэту позволено то, что не разрешено обычному человеку». Тем более что и тебе – как почти поэту, как художнику слова или сцены – тоже немало чего будет как бы позволено.
Любопытно, однако, получается. Автор «Нецелованного креста» строг к Поэту и не предполагает для него никаких особых «дозволенностей» – пусть будет добр вести себя как все. Автор «Окаянных женщин» в отношении Поэта, по видимости, мягче и эластичнее: «он знает о жизни больше других», поэтому ему «позволено» больше, чем обычному человеку. Диаметрально разные, вроде бы, позиции. А результат один – Марине Цветаевой (поэту и человеку) от обоих прикосновений к ее судьбе нестерпимо плохо.
Потому что не стало у нас культуры публичного высказывания, этики обращения с духовными ценностями. А ведь были они – достаточно вспомнить книгу Нины Берберовой о Чайковском…
Потому что оба этих голоса – «из толпы», независимо от того, в какие идейные, религиозные, профессиональные одежды облачены их носительницы. «Толпа» и есть то самое «мы», считающее себя вправе просветить «однажды» Поэта относительно «великих законов мира (Божьих и человеческих)»,
которые он по недомыслию своему, по отсутствию подлинных и единственных нравственных ориентиров нарушает. Почерк «толпы» безошибочно узнается в приеме «обсуждения» Поэта, сплетни о нем, поучения ему, узнается и по подспудному сравнению с собой – все за него знающим и понимающим.
Разумеется, разница между двумя этими публикациями очень велика. Но и «толпа» многолика и в полярных своих проявлениях почти неузнаваема: обыденное ее сознание наделена богатой способностью к мимикрии.
Разумеется, поместившие две эти публикации издания – журнал «Новый мир» и газета «Аргументы и факты» – тоже очень разные, и спрос с первого, естественно, строже.
Разумеется, очень разную реакцию вызывают две эти публикации: между неприятием и негодованием – целая пропасть.
Пушкин, если представить его заступником Цветаевой (а как бы ей этого хотелось!), мог бы, думаю, в ответ на первую статью сказать: «Подите прочь – какое дело Поэту мирному до вас». Автора газетной клеветы, будь тот мужчиной, Пушкин вызвал бы на дуэль.
- «ЛЕВ НА ПРИВЯЗИ»
Не на дуэль, конечно, но к ответу за клевету нынешних обидчиков матери, совершенно невольно и непреднамеренно, призывает со страниц опубликованных теперь «Дневников» Георгий Эфрон. И есть в этом какая-то высшая справедливость.
Во-первых, сыну и должно защищать честь матери. И уж тем более честь такой матери, как Марина Цветаева, записавшая в самый канун возвращения в Россию (28 мая 1939 года; практически последняя по времени запись в «Сводных тетрадях») такую вот «попутную и внезапную» свою мысль: «Я своего ребенка обязана любить больше своей чести. (Честь – просто!)».
Во-вторых, несмотря на все особенности и трудности своего характера, он и при жизни, совсем еще мальчишкой, старался не давать мать в обиду, брал ее сторону в разных столкновениях и конфликтах.
Об этом свидетельствует Ариадна Эфрон, писавшая в одном из своих писем к Анастасии Цветаевой: «Я его ни в чем не осуждаю, так же как и себя не осуждаю за то, что делала и чего не делала в ранней молодости <…> Я знаю только одно, что за все то время, что мы были вместе, он не только очень любил маму, но и очень хорошо умел проявлять эту любовь. С самых ранних лет относился к ней со взрослой чуткостью, чуя ее детским своим сердцем и понимая взрослым умом <…> В спорах отца с матерью или моих с ней, вообще во время семейных конфликтов, он или становился на ее сторону, или старался успокоить ее».
И в том же письме воспроизведен эпизод, имевший место в семье цветаевских друзей Артемовых: «Однажды возник спор – что лучше, поэзия или живопись, и мама доказывала, страстно и резко, что поэт – выше всех, что поэзия выше всех существующих искусств, что это – дар Божий, наконец дошли до необитаемого острова, где (мама) «поэт все равно, без единого человека вокруг, без пера и бумаги, все равно будет писать стихи, а если не писать, то все равно говорить, бормотать, петь свои стихи, совсем один, до последнего издыхания» – а Артемова: «а художник на необитаемом острове все равно будет острым камнем по плоскому царапать свои картины» – и тут мама расплакалась и сказала: «а все равно поэт – выше!» Мур, молча и внимательно наблюдавший за всем этим, бросился с кулаками на Ар[темо]ву, крича плаксивым [детским] басом: «Дура! Не смей обижать маму!» (а потом к маме, припал к ней, обнял. Было ему что-то около семи лет…)».
Еще ценнее свидетельств сестры немногочисленные, правда, но запоминающиеся фрагменты записей самого Георгия Эфрона, из которых явствует, что свойство это – оскорбляться за мать, заступаться за нее – он не утратил и в более зрелом возрасте. Так, в дневниковой записи шестнадцатилетнего Мура (от 3 января 1941 года) читаем о склоках соседей по коммунальной квартире, где они тогда жили с Мариной Цветаевой: «Сегодня Воронцов учинил форменный скандал <…> Грозил, что напишет в домоуправление/Говорил, что мы развели грязь в кухне. Все это говорилось <…> в исключительно злобном тоне, угрожающем. Я выступал в роли умиротворителя, а после того как мать ушла из кухни, говорил Воронцову, чтобы он говорил с матерью полегче. Это самое худшее, что могло только случиться <…> Главное, что ужасно, это то, что этот Воронцов говорил исключительно резко и злобно с матерью. Моя мать представляет собой объективную ценность, и ужасно то, что ее третируют, как домохозяйку <…> И главное в том, что если бы дело касалось меня лично, то мне было бы абсолютно все равно. Но оно касается матери. Мать исключительно остро чувствует всякую несправедливость и обиду» (с. 265 – 266).
Обида за мать прозвучит и в записи от 9 мая 1941 года: «А какие сволочи наши соседи. По правде говоря, я никогда не подозревал, что могут существовать такие люди – злые дураки, особенно жена. Я их ненавижу, потому что они ненавидят мать, которая этого не заслуживает» (с. 331). Или – 18 июня: «Я страдаю за мать, я боюсь, как огня, скандалов, которые могут вспыхнуть из-за какой-нибудь не на место поставленной кастрюли» (с. 389). Или в другой связи и гораздо раньше в августе 1940 года: «Как хотелось бы для матери спокойной, налаженной жизни, чтобы она могла нормально жить <…> Главное, я беспокоюсь и горюю за нее <…> Да, я мать очень жалею. Себя тоже. Но в другом духе и гораздо меньше, чем ее» (с. 174 – 175).
Даже нескольких этих цитат (а ряд их можно было бы продолжить) из «Дневников» достаточно, чтобы опровергнуть утверждение: «Сын ее страшно ненавидел», равно как и: «Он не называл ее мамой, только Мариной Ивановной». А ведь то были главные (и единственные!) «доказательства» инцеста. Между тем вплоть до рокового дня 31 августа Георгий, даже негодуя на «непрактичность», панику, растерянность, «маразм» матери, продолжал беспокоиться за нее, насколько вообще дано было ему беспокоиться за других, даже самых близких людей: «Боюсь за мать – как она будет возвращаться по такой грязи. Когда она приедет и какие вести принесет?» (с. 533), – записал он 25 августа, дожидаясь приезда Цветаевой из Чистополя. А инициалы М. И., вместо привычного «мать» (реже «мама»), появились в его дневниках лишь после смерти Марины Ивановны.
Как видим, никакой «ненависти» не было. Была эгоистическая сосредоточенность на себе, были жалобы на непонимание матери, была зачастую глухота к ее страхам и страданиям, была грубость в отстаивании своей самостоятельности…
Но все это, увы, свойственно многим и многим юношам, в том числе и выросшим в благополучных семьях в благоприятное время. Да, в Муре в силу внешних и внутренних обстоятельств все это проявлялось с утроенной силой и сверх всякой возрастной меры. И это больно ударяло по Марине Цветаевой, которую – поверх невообразимого своего эгоизма – он, конечно же, все-таки любил.
…А еще была сосредоточенность Мура на желанной, но пока для него неосуществимой близости с женщиной, был «зов плоти», отголоски которого звучат в многочисленных, очень откровенных записях, прямо и однозначно опровергающих наветы Врублевской и иже с ней. Ибо с 18 марта 1940 года, когда эта тема впервые появляется в «Дневниках», до 26 августа 1941 года Георгий Эфрон будет снова и снова возвращаться к теме своей девственности, к больному для него и так и не разрешенному – в обозначенных временных рамках – «половому вопросу».
Он считал совершенно естественным обсуждать эту тему, и не только на страницах своего дневника или в разговорах с приятелем Митей (Дмитрий Сеземан). Мур был убежден, что вековая традиция замалчивания «физической любви» лицемерна и вредна. В этой связи его удивляло (ведь «моя мать» не какая-нибудь «рядовая мещанка», она – «культурная женщина, поэт и т.п.») и огорчало безразличие матери к его «терзаниям»: привыкший во всем встречать ее поддержку и помощь, он и здесь надеялся на нее, на ее советы, на ее заботу.
«Мне интересно, почему мать не говорит мне о половой зрелости и о стремлениях, которые появляются в связи с появлением этой зрелости» хотя она знает, что я нахожусь как раз в периоде «терзаний»всех мальчиков, – пишет пятнадцатилетний Мур. – <…> Почему не дать каких-то конкретных (пусть даже для меня и ненужных) наставлений? Почему не говорить: то-то хорошо, а то-то плохо, то следует не делать, а то можно и т.д.? И мы опять возвращаемся к старой теме: к сознательному пренебрежению и игнорированию половой жизни <…> Вполне возможно, что мать думает, что я сам научусь «делать, как надо». Да и вообще она и не думает о моем половом воспитании, и это-то очень показательно и очень плохо. Но в этом отношении есть какой-то элемент незаботливости о своем сыне, который меня крайне удивляет, учитывая то, что мать всегда страшно заботится о том, как я ем, одет и т.п. Да, это странно и вместе с тем привычно. Неприятно то, что я совершенно лишен элементарных советов, исходящих от матери. Впрочем, чорт с ней» (с. 157 – 159).
Абстрагируясь от того, что есть «хорошо» и что есть «плохо» в вопросе полового воспитания подростка (ибо речь здесь совсем не об этом), заметим и подчеркнем только одно: как разительно отличается реальный образ Марины Цветаевой, засвидетельствованный сыном и уже по одному этому заслуживающий полного доверия, от ее мифического образа, который лепится любителями сенсационных (и, как им кажется, психологически обоснованных) «открытий» и «откровений». Разумеется, они никак не могли ожидать, что полвека спустя после своей гибели Георгий Эфрон не просто разоблачит клеветников матери, но и впрямую, на правах живого участника диалога, на их лицемерное и своекорыстное «поэту позволено то, что не разрешено обычному человеку», ответит, что Марина Цветаева – такая неординарная во многом и многом – в своих материнских чувствах и проявлениях, в выстраивании своих отношений с мужающим сыном была именно «обычным человеком», вела себя, к большому неудовольствию сына, как «рядовая мещанка», прогрессивной позиции открытого обсуждения трудной темы предпочитающая целомудренную традицию умолчания.
Таким образом, перчатка клеветникам, «тайнораскрывателям» Марины Цветаевой, брошена самим Муром. Но реакции никакой, и через год после издания «Дневников» читаем размышления (в клозете!) вымышленного героя-любовника Евгения, и как бы тоже о Цветаевой и о Георгии:
«Боже, почему тут так грязно? Дернув ржавую проволоку, которая свисала с треснутого, подтекающего бачка, он сделал усилие над собой, чтобы смыть из памяти этот запах и этот срач – такое привязывается и потом долго живешь внутри запоминающейся картинки.
Забил ее, подумав о Марине.
Выпроваживает?
Почему?
Не хочет, чтобы он пересекся с ее сыном?
Если так, то выскакивает новое «почему?» И это захотелось узнать… Когда-нибудь…».
Воздерживаясь от комментариев относительно повести Ольги Новиковой, относительно правомерности легшего в ее основу приема вымысла о реальном и дорогом в нашем прошлом (ибо это увело бы разговор в сторону от непосредственной моей темы), не удержусь, однако, от своего личного – выскакивающего – «почему», точнее, от целого ряда напрашивающихся вопросов:
Почему так грязно поминают ныне Марину Ивановну Цветаеву?
Чем не устраивает она – настоящая – сегодняшнего читателя, прозаика, драматурга, режиссера, исследователя?
Почему наперекор доступной нам правде о ней (а ею помимо стихов, поэм, пьес, мемуарной, автобиографической и теоретико-литературной прозы оставлено так много записей, писем, воспоминаний, самоаналитических заметок, которые дополнились теперь еще и дневниками сына, проливающими свет на последние ее земные годы, когда сама Цветаева записей почти не вела) снова и снова плетутся вокруг ее имени легенды, похожие скорее на сплетни, и нравоучения, граничащие с приглашением на казнь?
Почему и теперь, как в 1938 году, когда сделана Цветаевой эта запись, мы даем ей повод сказать: «Мое последнее чувство от людей будет – горечь: незаслуженность обиды»?
Вынужденно оставляя эти (отнюдь, однако, не риторические) вопросы открытыми, ожидающими ответов, обращусь к были цветаевского материнства и к правде цветаевской смерти. А между ними есть несомненная связь, и, как бы предчувствуя это, Марина Цветаева еще весной 1925 года, 10 марта, написала: «Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика (Мур родился 1 февраля, и было ему тогда месяц с небольшим. – Т. Г.), которого люблю какою-то тоскливою, умиленною, благодарною любовью. Алю бы (дочь Ариадну. – Т. Г.) я жалела за другое и по-другому. Больше всего бы жалела детей, значит – в человеческом – больше всего – мать».
О том, как подтвердились последние слова этой записи 31 августа 1941 года, разговор впереди, а пока посмотрим на интервал, обозначенный двумя датами (1925 – 1941), глазами матери и сына.
- «ЧЕРНОВИКИ МАТЕРИНСТВА».
Апрелем 1925 года (Муру около трех месяцев) датирована такая запись:
«Есть элегическое материнство, лирическое. Черновик – под ключ! И есть чревное, черновое: пеленками в нос.
(Проще: вежливое – и невежливое. 1933 г.)
Пеленки: черновики материнства (младенчества)».
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Мур (сын Георгий Сергеевич Эфрон). Цветаева без глянца
Мур
(сын Георгий Сергеевич Эфрон)
Александра Захаровна Туржанская (?-1974), актриса, жена кинорежиссера Н. Туржанского. В записи В. Лосской:
Было подозрение, что Мур не сын Сергея Яковлевича, а сын К. Б. … А Сергей Яковлевич к нам подошел и сказал: «Правда, он на меня похож?» Потом был разговор с Мариной. Она при мне сказала: «Говорят, что это сын К.Б. Но этого не может быть. Я по датам рассчитала, что это неверно» [5; 100]
Константин Болеславович Родзевич. В записи В. Лосской:
К рождению Мура я отнесся плохо. Я не хотел брать никакой ответственности. Да и было сильное желание не вмешиваться. «Думайте что хотите Мур — мой сын или не мой, мне все равно». Эта неопределенность меня устраивала. Мое поведение я конечно, порицаю: «Отойдите, это сложно для меня» — вот что я тогда думал. <…> Потом в Париж» мы встречались с Сережей. Но он не принимал ни какого участия в воспитании Мура. Когда я с Муром встречался, мы были дружественно настроены, и не больше. Я тогда принял наиболее легкое решение: Мур — сын Сергея Яковлевича. Я думаю, что со стороны Марины оставлять эту неясность было ошибкой. Но она так и не сказала мне правду. Я, конечно, жалею теперь, что отнесся к этому без должного интереса. <…> Сын мой Мур или нет, я не могу сказать, потому что я сам не знаю. В этом вопросе, пожалуй, Марина была не права. Она мне определенно так и не сказала [5; 100–101].
Григорий Исаакович Альтшуллер:
Она дала сыну имя Георгий, но всегда звала его «Муром», ласкательным именем, которое не имело никакого отношения ни к кому из членов ее семьи. Она писала 10 мая 1925 года другу: «Борис — Георгий — Барсик — мур. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем, во-вторых — Kater Murr — Германия, в-третьих, само, вне символики, как утро в комнату. Словом — Мур». Далее в том же письме она добавляет: «Не пытайтесь достать иконку для Мура. (Кстати, что должно быть на такой иконке? Очевидно — кот? Или старший в роде — тигр?» Kater Murr — это знаменитый незавершенный роман Э. Т. Гофмана, созданный в 1819–1821 гг., полное название произведения — Житейские воззрения кота Мурра с присовокуплением макулатурных листов с биографией капельмейстера Иоганнеса Крейслера. Мурр — это ученый кот, который записывает свои воспоминания на оборотной стороне листов с автобиографией его хозяина [3; 61–62].
Вера Леонидовна Андреева:
Рядом (на пляже в Понтайяке, в 1927 г. — Сост), поджав по-турецки ноги, сидел шестилетний[33], страшно толстый сын Марины Цветаевой — Мур. Стыдно сказать, но я, тогда семнадцатилетняя большая девушка, робела перед этим ребенком. Впрочем, Мур только по возрасту был ребенком — мне он казался чуть ли не стариком, — он спокойно и уверенно вмешивался в разговор взрослых, употребляя совершенно кстати и всегда правильно умные иностранные слова: «рентабельно», «я констатировал», «декаденты». Мне он напоминал одного из императоров времени упадка Римской империи — кажется, Каракаллу. У него было жирное, надменно-равнодушное лицо, золотые кудри падали на высокий лоб, прекрасного ясно-голубого цвета глаза спокойно и не по-детски мудро глядели на окружающих, Марина Ивановна страстно обожала сына [1;365–366].
Марина Ивановна Цветаева. Из письма Р. Н. Ломоносовой. Париж, Медон, 12 сентября 1929 г.:
Мур (Георгий) — «маленький великан», «Муссолини»[34], «философ», «Зигфрид», «lе petit ph?nom?ne», «Napol?on ? Ste H?l?ne», «mon doux J?sus de petit Roi de Rome»[35] — все это отзывы встречных и поперечных — русских и французов — а по мне просто Мур, которому таким и быть должно. 41/2 года, рост 8-летнего, вес 33 кило (я — 52), вещи покупаю на 12-летнего (NB! француза) — серьезность в беседе, необычайная живость в движениях, любовь 1) к зверям (все добрые, если накормить) 2) к машинам (увы, увы! ненавижу) 3) к домашним. Родился 1-го февраля 1925 г., в полдень, в воскресенье. Sonntagskind[36].
Я еще в Москве, в 1920 г. о нем писала:
Все женщины тебе целуют руки
И забывают сыновей.
Весь — как струна!
Славянской скуки
Ни тени — в красоте твоей!
Буйно и крупно-кудряв, белокур, синеглаз [9; 315].
Александр Александрович Туринцев. В записи В. Лосской:
Это был какой-то херувимчик, круглый, красивый, с золотыми кудрями. Самоуверенный. <…> У него были необыкновенные глаза, но что-то искусственное. <…> Как и на Але, на нем был отпечаток Марины [5; 143].
Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. А. Тесковой. Париж, Ване, 28 декабря 1935 г.:
…Мур живет разорванным между моим гуманизмом и почти что фанатизмом — отца… <…> Очень серьезен. Ум — острый, но трезвый: римский. Любит и волшебное, но — как гость.
По типу — деятель, а не созерцатель, хотя для деятеля — уже и сейчас умен. Читает и рисует — неподвижно — часами, с тем самым умным чешским лбом. На лоб — вся надежда.
Менее всего развит — душевно: не знает тоски, совсем не понимает.
Лоб — сердце — и потом уже — душа: «нормальная» душа десятилетнего ребенка, т. е. — зачаток. (К сердцу — отношу любовь к родителям, жалость к животным, все элементарное. — К душе — все беспричинное болевое.)
Художественен. Отмечает красивое — в природе и везде. Но — не пронзен. (Пронзен = душа. Ибо душа = боль + всё другое.)
Меня любит как свою вещь. И уже — понемножку — начинает ценить… [8; 430]
Вера Александровна Трэйл (урожд. Гучкова, в первом браке Сувчинская; 1906–1987), знакомая семьи Эфрон. В записи В. Лосской:
Я этого мальчика знала до 12 лет, и я никогда не видела, чтобы он улыбнулся. В нем было что-то странное. Но про ребенка, который до 12 лет никогда не улыбался, нельзя сказать, что у него было счастливое детство! А Марина его совершенно обожала [5; 143].
Марина Ивановна Цветаева. Из записной книжки:
1938. Вокруг — грозные моря неуюта — мирового и всяческого, мы с Муром — островок, а м. б. те легкомысленные путешественники, разложившие костер на спине анаконды. Весь мой уют и моя securite[37] — Мур: его здравый смысл, неизбывные и навязчивые желания, общая веселость, решение (всей природы) радоваться вопреки всему, жизнь текущим днем и часом — мигом! — довлеет дневи злоба его, — его (тьфу, тьфу, не сглазить!) неизбывный аппетит, сила его притяжений и отвращений, проще — (и опять: тьфу, тьфу, не сглазить!) его неизбывная жизненная сила [10; 554].
Мария Иосифовна Белкина:
Он был высокий, плотный, блондин, глаза серые, черты лица правильные, тонкие. Он был красив, в нем чувствовалась польская или немецкая кровь, которая текла и в Марине Ивановне. Держался он несколько высокомерно, и выражение лица его казалось надменным. Ему можно было дать лет двадцать или года двадцать два, а на самом деле он родился 1 февраля 1925 года — значит, в июле сорокового ему было пятнадцать лет и пять месяцев!..
Он был в тщательно отутюженном костюме, при галстуке (это несмотря на жару), и носки были подобраны под цвет галстука [4; 39].
Ольга Петровна Юркевич (р. 1927), педагог, дочь П. И. Юркевича:
Был он крупный, с развитым торсом. На первый взгляд его можно было принять за спортсмена. Особенно выделялись ширина плеч, царственно поставленная голова с широким, просторным лбом.
Ни тени приязни не было у него на лице. Смотрел он выше голов людей. С порога небольшими серыми глазами в частой щеточке ресниц осмотрел он комнату. Сухо, не глядя, поклонился общим поклоном и замер. За весь вечер не произнес ни слова.
Сидел он среди занятых разговором людей весьма отчужденно. Его крупная, безукоризненно одетая в серый тон фигура какого не вязалась с обыденностью обстановки. <…>
За столом, сидя рядом с Муром, я имела возможность его рассмотреть, вернее, не его, а его руку, которую он, я думаю, не без умысла, картинно выложил на рукав пиджака. Многократно вспоминая ее совершенную форму, я могу только сказать, что нечто подобное я видела в скульптурах древнегреческих ваятелей. Мне всегда хочется сравнить эти руки с руками Афродиты. Крупные, белоснежные, с великолепным сводом и тонкими аристократическими суставами. Эти руки не могли ничего крепко взять, они могли только прикоснуться [4; 108, 110].
Мария Иосифовна Белкина:
Он мог легко вступать в разговор на равных со взрослыми, с безапелляционностью своего не мнимого, вернее, не зримого, возраста, а подлинного пятнадцатилетия. Он даже Марину Ивановну мог оборвать: «Вы ерунду говорите, Марина Ивановна!» И Марина Ивановна, встрепенувшись как-то по-птичьи, на минуту замолкала, удивленная, растерянная, и потом, взяв себя в руки, продолжала, будто ничего не произошло, или очень мягко и настойчиво пыталась доказать ему свою правоту. Он всегда называл ее в глаза — Марина Ивановна и за глаза говорил: «Марина Ивановна сказала, Марина Ивановна просила передать!» Многих это шокировало, но мне казалось, что мать, мама как-то не подходит к ней, Марина Ивановна — было уместнее [4; 39–40].
Ариадна Сергеевна Эфрон. В записи В. Лосской:
Мур был одаренный, незаурядный мальчик. Он мог писать о литературе. У него был критический и аналитический ум. Он отлично знал французскую литературу и язык и был до некоторой степени маминым повторением (в мужском варианте) <…> Всю жизнь он был довольно печальным мальчиком, но верил в будущее. Был прост и искренен, так же, как мама. Мама ведь была искренняя и открытая, и он не лукавил и не был дипломатом. То, что он делал плохого, он всегда рассказывал, ему так нужно было, потому что правда была в его душе [5; 138].
Людмила Васильевна Веприцкая (1902–1988), детская писательница, драматург:
Прекрасно знал литературу. Тагер, однажды погуляв с ним по лесу и поговорив о литературе, пришел и сказал: «Я не встречал в таком возрасте такого знания литературы». Однако с математикой у Мура было плохо, и Марина Ивановна нанимала ему репетитора [4:94].
Татьяна Николаевна Кванина:
Мне нравилось, что Мур был учтив: когда я приходила, он никогда не садился, прежде чем не сяду я.
Если при разговоре с ним я вставала и подходила к нему, он неизменно вставал [1; 474].
Георгий Сергеевич Эфрон (Мур) (1925–1944), сын М. И. Цветаевой. Из дневника:
25/III-41. Мамаша в последнее время подружилась с какой-то служащей из Группкома Гослита Ниной Герасимовной и часто к ней ходит. В четверг она где-то будет читать свои стихи, и там будет много народа. Где-то в мастерской какой-то скульпторши. Мать всячески приглашает меня и к Нине Герасимовне, и на чтение и говорит, что ее знакомые к моим услугам, но я полагаю, что я просто не могу ходить в гости как «сын Марины Ивановны» — что мое положение среди ее знакомых неравноправно. Я считаю, что я буду вращаться только в такой среде, где я буду сам Георгий Сергеевич, а не «сын Марины Ивановны». Иными словами, я хочу, чтобы люди со мной знакомились непосредственно, а не как с «сыном Цветаевой» [19; 305].
Татьяна Николаевна Кванина:
Ему было, конечно, предельно трудно в этот период. Все новое: страна, уклад жизни, школа, товарищи. Все надо было узнавать вновь, надо было найти свое место. А тут еще переходный возраст: повышенная раздражительность, нетерпимость к советам (не дай Бог, приказаниям!), болезненное отстаивание своей самостоятельности и пр., и пр. <…>
Как-то Марина Ивановна хотела поправить кашне уходившему Муру (на улице было холодно). Мур вспыхнул, сердито дернулся, резко отвел руку Марины Ивановны и резко сказал: «Не троньте меня!» Но тут же посмотрел на мать, потом на меня, и такое горестное, несчастное лицо у него было, что хотелось броситься с утешением не к Марине Ивановне, а к нему, к Муру [1; 474–475].
Георгий Сергеевич Эфрон (Мур). Из дневника: 16/VII-41:
С некоторого времени ощущение, меня доминирующее, стало распад. Распад моральных ценностей, тесно связанный с распадом ценностей материального порядка. Процесс распада всех без исключения моральных ценностей начался у меня по-настоящему еще в детстве, когда я увидел семью в разладе, в ругани, без объединения. Семьи не было, был ничем не связанный коллектив. Распад семьи начался с разногласий между матерью и сестрой, — сестра переехала жить одна, а потом распад семьи усилился отъездом сестры в СССР. Распад семьи был не только в антагонизме — очень остром — матери и сестры, но и в антагонизме матери и отца. Распад был еще в том, что отец и мать оказывали на меня совершенно различные влияния, и вместо того, чтобы им подчиняться, я шел своей дорогой, пробиваясь сквозь педагогические разноголосицы и идеологический сумбур. Процесс распада продолжался пребыванием моим в католической школе Маяра в Кламаре. С учениками этой школы я ничем не был связан, и хотя меня никто не третировал, но законно давали ощущать, что я — не «свой», из-за того, что русский и вдобавок коммунистической окраски. Что за бред! Когда-то ходил в православную церковь, причащался, говел (хотя церковь не переносил). Потом пошло «евразийство» и типография rue de l’Union. Потом — коммунистическое влияние отца и его окружающих знакомых — конспираторов-«возвращенцев». При всем этом — общение со всеми слоями эмиграции… и обучение в католической школе! Естественно, никакой среды, где бы я мог свободно вращаться, не было. Эмигрантов я не любил, потому что говорили они о старом, были неряшливы и не хотели смотреть на факты в глаза, с «возвращенцами» не общался, потому что они вечно заняты были «делами». С французскими коммунистами я не общался, так как не был с ними связан ни работой, ни образом жизни. Школа же мне дала только крепкие суждения о женщинах, порнографические журналы, любовь к английскому табаку и красивым самопишущим ручкам — и всё. С одной стороны — гуманитарные воззрения семьи Лебедевых, с другой — поэтико-страдальческая струя влияний матери, с третьей — кошачьи концерты в доме, с четвертой — влияние возвращенческой конспирации и любовь к «случайным» людям, как бы ничего не значащим встречам и прогулкам, с пятой — влияние французских коммунистов и мечта о СССР как о чем-то особенно интересном и новом, поддерживаемая отцом, с шестой — влияние школы (католической) — влияние цинизма и примата денег. Все эти влияния я усваивал, критически перерабатывал каждое из них — и получался распад каждой положительной стороны каждого влияния в соответствии с действием другого влияния. Получалась какая-то фильтрация, непонятная и случайная. Все моральные — так называемые объективные — ценности летели к чорту. Понятие семьи — постепенно уходило. Религия — перестала существовать. Коммунизм был негласный и законспирированный. Выходила каша влияний. Создавалась довольно-таки эклектическая философски-идеологическая подкладка. Процесс распада продолжался скоропалительным бегством отца из Франции, префектурой полиции, отъездом из дому в отель и отказом от школы и каких-то товарищей, абсолютной неуверенностью в завтрашнем дне, далекой перспективой поездки в СССР и вместе с тем общением — вынужденно-матерьяльным — с эмигрантами. Распад усугублялся ничегонеделаньем, шляньем по кафэ, встречей с Лефортом, политическим положением, боязнью войны, письмами отца, передаваемыми секретно… какая каша, боже мой! Наконец отъезд в СССР. По правде сказать, отъезд в СССР имел для меня очень большой характер, большое значение. Я сильно надеялся наконец отыскать в СССР среду устойчивую, незыбкие идеалы, крепких друзей, жизнь интенсивную и насыщенную содержанием. Я знал, что отец — в чести и т. д. И я поехал. Попал на дачу, где сейчас же начались раздоры между Львовыми и нами, дрязги из-за площади, шляния и встречи отца с таинственными людьми из НКВД, телефонные звонки отца из Болшева. Слова отца, что сейчас еще ничего не известно. Полная законспирированность отца, мать ни с кем не видится, я — один с Митькой. Неуверенность (отец говорил, что нужно ждать, «пока все выяснится» и т. д.). Тот же, обычный для меня, распад, неуверенность, зыбкость материальных условий, порождающая наплевательское отношение ко всему. Тот же распад, только усугубленный необычной обстановкой. Потом — аресты отца и Али, завершающие распад семьи окончательно. Все, к чему ты привык — скорее, начинаешь привыкать, — летит к чорту. Это и есть разложение и меня беспрестанно преследует. Саморождается космополитизм, деклассированность и эклектичность во взглядах. Стоило мне, например, в различных школах, где я был, привыкнуть к кому-нибудь, к чему-нибудь — нате: переезд — и все к чорту, и новый пейзаж, и привыкай, и благодари. Сменяются: Болшево, Москва, Голицыно, комнаты в Москве, школы, люди, понятия, влияния — и сумбур получается. Наконец — Покровский бульвар. Как будто прочность. Договор на 2 года. Хожу в школу, знакомлюсь, привыкаю. Но тут скандалы с соседями. Хорошо. Кончаю 8-й класс — причем ни с кем не сблизился (еще одно предположение-надежда летит к чорту: что найду «среду». Никакой среды не нашел, да и нет ее). Знакомлюсь с Валей, вижусь с Митькой. Тут — война! И всё опять к чорту. Начинаются переездные замыслы, поиски комнат. Опять полная неуверенность, доведенная до пределов паническим воображением матери. Идут самые неуверенные дни жизни, самые панические, самые страшные, самые глупые. Дежурства, «что завтра?» и т. д. Теперь, после этого всего, — Пески. Идиотское времяпрепровождение, идиотские люди, идиотские разговоры о самоварах, яичках и т. д. Патологическая глупость, интеллектуальная немощность, прикрываемая благодушием. Пески — для меня полнейший моральный декаданс. Почему я так часто говорю о распаде, разложении? Потому что все, с чем я имел дело, клонилось к упадку. Наладились отношения с Валей — уезжаю в Пески. И никакие письма не помешают нашим отношениям клониться к упадку, и я не буду удивлен, если эти отношения прекратятся вовсе. Все это я пишу не из какого-то там пессимизма — я вообще очень оптимистичен. Но чтобы показать факты. Пусть с меня не спрашивают доброты, хорошего настроения, благодушия, благодарности. Пусть меня оставят в покое. Я от себя не завишу и пока не буду зависеть, значить ничего не буду. Но я имею право на холодность с кем хочу. Пусть не попрекают меня моими флиртами, пусть оставят меня в покое. Я имею право на эгоизм, так как вся моя жизнь сложилась так, чтобы сделать из меня эгоиста и эгоцентрика [19; 451–454].
Вадим Витальевич Сикорский (р. 1922), поэт, переводчик, товарищ Г. С. Эфрона:
Мать увозила меня в эвакуацию. На пароходе, несколько суток плывшем по Оке, Волге и Каме, была и Марина Цветаева. Это имя мне ничего не говорило. С ее сыном Муром, небрежно упоминавшем о мимолетных подробностях жизни в Париже, мы быстро сошлись. Поначалу он воспринимался как существо экзотическое. Он иногда с трудом цедил русские слова, еле удерживаясь от прононса. Красивый, сдержанный, глаза холодные, умные. Говорил негромко. Если бы он стал персонажем фильма или пьесы, лучше всего его мог бы сыграть Кторов.
Я читал некоторые воспоминания, связанные с Цветаевой, где Мур представлен не в самом лучшем свете. Он действительно казался рассудочным, воспринимавшим жизнь с позиции холодной безупречной логики. Но на самом деле он был не таким. В этом я убедился в самую страшную минуту его жизни, когда передо мной вдруг оказался дрожащий, растерянный, потрясенный, несчастный мальчик. Это было в первую ночь после самоубийства Цветаевой. Он пришел ко мне, просил, дрожа, разрешения переночевать. Лишь через несколько дней нашел в себе силы сказать: «Марина Ивановна поступила логично» [4; 211].
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесМарина Цветаева и её сын Мур | ИСКУССТВО & КИНО
Творческие люди редко бывают «нормальными». Но в основном они отличаются пристрастием к крепким напиткам, к полигамности или запрещённым веществам. Марина Цветаева же выделялась совсем другим. Её любовь к младшему ребёнку по своей странности и нездоровости превзошла даже близкие отношения, которые были у поэтессы с женщиной.
Марина Цветаева (фото foma.ru)Марина Цветаева (фото foma.ru)
Георгий Эфрон был единственным сыном Марины Цветаевой. Она родила его, когда ей было 33 года, а ранее уже воспитывала двух дочерей Ирину и Ариадну. Но девочки мало значили для матери. Именно сын стал для неё центром вселенной.
Когда Грише было несколько недель ему придумали прозвище Мур. С тех пор мальчика так и называли все домашние и близкие. Марина восхищалась всем, что делает сын. Спал ли он или бился в истерике — всё было прекрасно. Хотя окружающие находили мальчика страшненьким и даже непрятным.
Когда мальчику было 11 месяцев в гости в поэтессе пришла её давняя приятельница, чтобы посмотреть на любовь всей жизни Марины. Её воспоминания характеризуют вселенскую слепоту матери относительно своего ребёнка:
Пока я шла к колыбельке, а она стояла в углу, Марина всё причитала как мне должен понравится Мур. Я приготовилась умиляться и сюсюкать с крохой. Но когда мне открылось лицо Гриши я едва смогла сдержать гримасу отвращения. Это был ребёнок с огромной головой, коротенькими ручками и очень серьёзным выражением лица. На меня смотрел не младенец, а сорокалетний мужик. Его взгляд был холодным и отталкивающим. Казалось что он замышляет как бы похитрее меня уничтожить. Хотя этого, разумеется, быть не могло.
Кстати никто из окружения поэтессы не видел, чтобы Мур в детстве хоть раз улыбнулся.
Сын Марины Цветаевой (фото zoozel.ru)Сын Марины Цветаевой (фото zoozel.ru)
А для матери это был самый лучший ребёнок во всём белом свете. Конечно, для каждой матери её дети самые самые. Но никто из женщин не будет требовать, чтобы перед её отпрыском преклонялись, как перед Богом. А вот Цветаева требовала.
Однажды, когда Муру было около 10 лет, семья отдыхала на Черном море. И Гриша бегал по песку кругами. Естественно при этом он мешал другим отдыхающим. Когда одна дама не выдержала и сделала мальчику замечание, что он загораживает ей солнце, Цветаева налетела на неё как бешеная фурия. Она кричала, что нельзя так разговаривать с самым светлым существом на Земле. И требовала, что бы женщина принесла свои извинения.
В этом поступке было всё отношение матери к сыну. И оно продолжалось не только в детстве, но и когда мальчик подрос. Её вторая дочь, Аля, заменяла матери и брату прислугу. И Марину это нисколько не смущало. Она считала, что в женщинах нет ничего святого, что они рождены быть грешницами и мученицами. А вот Гриша….
Цветаева таскала его за собой абсолютно везде, как собаку на привязи. Когда Мур начал противиться обществу матери, она жаловалась Але, что сын не хочет её видеть. Говорила «Он всегда идёт со мной так неохотно, как будто волк на привязи». А Аля в свою очередь думала, что скорее это не Гриша, а мать сама тащит его, как волка на верёвке.
Марина Цветаева с мужем, сыном Гришей и дочерью Алей (фото zoozel.ru)Марина Цветаева с мужем, сыном Гришей и дочерью Алей (фото zoozel.ru)
Мать приносила в жертву сыну абсолютно всё, даже поэзию. Она так и говорила «Если я буду много работать, Мур будет страдать. Пусть уж лучше страдают стихи».
С таким воспитанием матери не удивительно, что мальчик рос, чувствуя себя центром мироздания. Он был высокомерен, груб и бессердечен. Грубил матери, срывался на неё по каждому пустяку. Но, ведь нельзя сказать, что в этом никто не виноват. Марина сама сделала таким мальчика.
Мур называл стихи матери пустыми, глупыми, бессмысленными и ничтожными. И как бы ей не было больно от этого, Цветаева во всём соглашалась с сыном. Раз её Гриша говорит, что поэзия плохая, значит так оно и есть. Когда поэтесса начала увядать, то сын не уставал подмечать, что она стала похожа на деревенскую старуху. А Цветаева млела от того, что он называл её «деревенской».
С началом войны мать совсем обезумела. Она хотела любым способом укрыть Мура от властей, чтобы его не забрали на фронт. А Гриша столь же сильно хотел вырваться из под её опеки. Ему была желанна война, лишь бы больше не быть рядом с матерью. Она душила его своей любовью и заботой. Когда у мура появилась девушка, то мать устроила ему настоящий допрос о ней. И он страдал в душе. Страдал ровно так же, как и сама Марина когда-то. Но она забыла, что такое юность и жажда независимости.
Русская поэтесса Марина Цветаева (kp.by)Русская поэтесса Марина Цветаева (kp.by)
Существует слух, что у Цветаевой и Мура были близкие отношения. Но подтверждение этому нет в современной истории. С одной стороны это звучит мерзко и абсурдно. А с другой стороны…Цветаева явно любила сына нездоровой любовью.
Когда Марина в своём безумии вдруг осознала, что уже не нужна сыну. Что сама своими руками разрушила ту теплоту между ними, которая могла бы быть, ей стало невыносимо жить. В своей последней записке она сообщала:
Мурлыга…прости меня, сынок. Я больна и поправится уже нет возможности. То, что я вижу в зеркале — это уже не я. Скажи Альке и папе, что я любила их. Скажи им, что я зашла в тупик. Они поймут. И ты, надеюсь, тоже. Прощай.
Сын не пришёл посмотреть на тело, как не присутствовал и на прощании с матерью. Кто-то счёл это невиданной жестокостью, кто-то, напротив, считал что утрата матери так сильно повлияла на Георгия, что он просто не смог там быть.
Осенью 1943 года Георгий Эфрон ушёл добровольцем на фронт, откуда не вернулся. Сбылись самые отчаянные страхи Марины Цветаевой. А может быть наоборот, сбылась мечта скорее вновь увидеть своего золотого мальчика.
Читайте так же:
Ирина Макарова. С вершины счастья в бездну отчаяния
Евгения Урбанского погубило упрямство режиссёра
Роковая ошибка Алексея Баталова
ХОРОШЕГО ВАМ ДНЯ!
Музеи Королева
31 марта
СыновьяГеоргий, сын Марины, Федор, сын Сергея. В «Мемориальном Доме-музее Марины Цветаевой в Болшеве» начала работу новая выставка.
Главные герои – Георгий Сергеевич Эфрон
(1925–1944) и Федор Сергеевич Булгаков (1902–1991) никогда не
встречались друг с другом во времени, но объединены единством места,
и это место – Болшево.
Георгий Сергеевич Эфрон (1925–1944) – сын Марины Цветаевой,
герой ее писем, адресат ее стихотворений….
Рождение сына, его облик и даже характер были мистически
предначертаны поэтом.
На пасхальной неделе 1920 года Марина Цветаева в
стихотворении «Сын» написала:
Так, левою рукой упершись в талью,
И ногу выставив вперед,
Стоишь. Глаза блистают сталью,
Не улыбается твой рот.
Краснее губы и чернее брови
Встречаются, но эта масть!
Светлее солнца! Час не пробил
Руну — под ножницами пасть.
Все женщины тебе целуют руки
И забывают сыновей.
Весь — как струна! Славянской скуки
Ни тени — в красоте твоей.
Остолбеневши от такого света,
Я знаю: мой последний час!
И как не умереть поэту,
Когда поэма удалась!
Так, выступив из черноты бессонной
Кремлевских башенных вершин,
Предстал мне в предрассветном сонме
Тот, кто еще придет — мой сын.
Не зная, жив ли супруг, Сергей Эфрон, 27 февраля 1921 года она
отправила ему, в неизвестность, обещание сына:
«Сереженька, если Вы живы, мы встретимся у нас будет сын…. У
нас будет сын, я знаю, что это будет, — чудесный героический сын, ибо
мы оба герои».
Мечта Марины Цветаевой сбылась 1 февраля 1925 года, в день,
когда в Чехии, под Прагой, во Вшенорах у неё родился мальчик. На
следующий день она отправила письмо с этой радостной новостью Анне
Тесковой:
«Дорогая Анна Антоновна, Вам первой – письменная весть. Мой сын,
опередив и медицину и лирику, оставив позади остров Штванице,
решил родиться не 15-го, а 1-го, не на острове, а в ущелье. Мой сын
родился в воскресенье, в полдень. По-германски это – Sonntagskind
(воскресное дитя), понимает язык зверей и птиц, открывает клады.
Февральский камень – аметист. Родился он в снежную бурю».
8 февраля – Ольге Колбасиной-Черновой:
«Нам с мальчиком пошли восьмые сутки. Лицом он, по общим отзывам,
весь в меня: прямой нос, длинный, скорее узкий разрез глаз (ресницы и
брови пока белые), явно – мой ротик, вообще – Цветаев. Помните, Вы
мне пророчили похожего на меня сына? Вот и сбылось. Дочь
несомненно пошла бы в Сережу.»
10 февраля Марина Цветаева окончательно определилась с именем
и написала Тесковой:
«Мальчик будет называться Георгий и праздновать свои именины
в день георгиевских кавалеров. Георгий – покровитель Москвы и,
наравне с Михаилом Архистратигом, верховный вождь войск. (Он же, в
народе, покровитель волков и стад. Оцените широту русского народа!)»
Однако, в письме из Праги к Борису Пастернаку от 26 мая 1925
года признается:
«Георгий же в честь Москвы и несбывшейся Победы. Но Георгием
все-таки не зову, зову – Мур – от кота, Борис, и от Германии, и немножко
от Марины». Так появился Мур, Мурлыга, Мурзил…
Крещение Мура произошло в очень значимый для Марины
Ивановны день, об этом – в письме Колбасиной-Черновой:
«Вчера, в Духов день, в день рождения Пушкина и день семилетия с
рукоположения о. Сергия <Булгакова> – стало быть, в тройной, в
сплошной Духов день – было крещение Георгия. Дня я не выбирала, как
не выбирала для его рождения – вышло само. Булгаков должен был
приехать в Псы служить на реке молебен, и вот заодно: окрестил Мура.
Мур во время обряда был прелестен. Я не видела, рассказывали.
Улыбался свечам, слизнул с носа миро и втянул сразу: крестильную
рубашку, ленту и крест. Одну ножку так помазать и не дал (не
Ахиллесова ли пята – для христианина – вселенскость? Моя сплошная
пята!) С головой окунут не был, — ни один из огромных чешских
бельевых чанов по всему соседству не подошел. Этого мальчика с
головой окунуть можно было только в море».
В конце 1925 года Мур вместе с матерью переезжает в Париж,
живет в Медоне, Кламаре, Ванве. С 1935 года учится в частной школе во
Франции (Кламар). В 1939 году завершается возвращение Цветаевых-
Эфрон в Россию после 17 лет эмиграции. С 19 июня по 8 ноября,
Георгий Эфрон с семьей живет в Болшеве, где впервые начнет учебный
год в советской школе. Затем будет жизнь в Москве и Голицино, а в
августе 1941 — эвакуация в Елабугу (Татарстан). После трагической
гибели матери, — в детском доме в Чистополе. В конце 1941 года на
короткое время приезжает в Москву, но уже через месяц отправляется в
эвакуацию в Ташкент, где поступает в девятый класс средней школы и в
1942 году заканчивает ее. 2 января 1943 года его зачисляют в
Трудармию. Осенью 1943 года Георгий возвращается в Москву и
поступает на первый курс Литинститута (переводческое отделение). За
два месяца до окончания первого курса идет на фронт рядовым. 8 июля
1944 года Георгий Эфрон погиб на Первом Прибалтийском фронте в
Белоруссии. Его мама, великий русский поэт Марина Ивановна
Цветаева, словно предвидя это, говорила: «Мальчиков надо баловать,
им, может быть, на войну придется».
Очень рано, примерно с шести лет, Георгий начал рисовать;
особенно хорошо ему удавались шаржи и небольшие графические
зарисовки. По счастливой случайности, рисунки Мура сохранились. В
совершенстве владел французским языком. Несомненные литературные
способности, проявившиеся, в частности, в первых поэтических опытах,
дневниках и переводах, не смогли раскрыться до конца из-за ранней
гибели Георгия Эфрона.
25 мая 1942 года о своей «маманкин» (так он обращался к маме в
бытовых записках) повзрослевший и много всего переживший Мур
напишет в письме к С.Д. Гуревичу: «Я вспоминаю Марину Ивановну в
дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем
потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я
тогда не совсем понимал ее и злился на нее за такое внезапное
превращение… Но как я ее понимаю теперь!»
Федор Сергеевич Булгаков – художник и график; старший сын
выдающегося русского философа и богослова профессора протоиерея
Сергея Николаевича Булгакова (1871–1944). Родился в Кореизе (Крым),
на даче Булгаковых-Токмаковых. Учился в Пятой московской мужской
гимназии; поскольку в 1918 году семья покидает Москву, закончил
гимназию в Ялте. В 1920 году принимает участие в Гражданской войне
(на стороне Добровольческой армии). Из-за ранения в 1921 году
оказывается отрезан от семьи и становится фактическим заложником у
Советской власти, опасавшейся политической активности его отца в
эмиграции. . Отец Сергий Булгаков в дневнике «Из памяти сердца» писал
об этом так: «Сегодня я проснулся рано утром в волнении, ужасе и тоске:
перед пробуждением со мной прощался Федя и как-то навсегда уносил
ту часть души, к<ото>рую я в него вложил. И этот разрыв был так
страшен и смертелен, что я в томлении проснулся и со слезами молился
о нем Божией Матери и так больше не мог уснуть… И вот опять теряем
мы — второй раз — Федичку и опять не знаем, увидимся ли когда в
жизни. Но надеюсь, прошу у Бога этой милости, буду стремиться всем
человеческим усилием. Не знаю, нужно ли это для него (хотя все-таки
нужно быть с нами и около нас), но хочу. Но да будет воля Твоя! Ты
ведешь. Тебе ведомы пути наши…». Позже, в Париже, в Сергиевом
Подворье в квартире Булгаковых была «Федина комната», ожидавшая
его возвращения.
Летом 1923 года возвращается в Москву; заканчивает студию
Дмитрия Кардовского (куда поступает благодаря рекомендации Бориса
Кустодиева), затем – ВХУТЕИН (1925–1930). Учится у Михаила
Нестерова, Ильи Машкова (живопись), Павла Корина (рисунок). В 1931
году арестован по делу «Истинно-православной церкви» и выслан на
три года в Казахстан, в 1933 возвращается в Москву. С 1934 года –
постоянный участник всесоюзных и московских выставок, с 1938 – член
Союза художников СССР. В 1939 году участвует во Всесоюзной выставке
молодых художников, посвященной 20-летию ВЛКСМ, открытой в
Третьяковской галерее. На рубеже 1941/1942 годов мобилизован;
закончил Школу комсостава; в 1945 демобилизовался из рядов
Советской Армии. Был женат на дочери своего учителя, Михаила
Нестерова (с 1945 года). В 1964 году провел персональную выставка в
Москве. В 1966 году вместе с женой, Натальей Михайловной Нестеровой,
посетил могилы своих родителей – Сергея Николаевича и Елены
Ивановны Булгаковых на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.
Федор Сергеевич Булгаков – частый гость дурылинского дома в
Болшево как при жизни его хозяина, так и после его смерти. Ряд работ
Федора Сергеевича, в частности, копия знаменитого нестеровского
портрета Сергея Дурылина «Тяжелые думы. Портрет неизвестного
священника» (1968) входят в постоянную экспозицию музея.
Судьбы и творчество великих родителей Георгия и Федора, – отца
Сергия Булгакова и Марины Цветаевой, — связаны. Именно отец Сергий
крестил Мура, сына Марины, в Праге; дочь о. Сергия Муна (Мария)
вышла замуж за возлюбленного Марины Константина Родзевича (и
получила в подарок от Марины Ивановны экземпляры «Поэмы конца» и
«Поэмы горы»). В эмиграции Булгаков полемизировал с евразийцами –
авторами «Верст», и до конца дней своих дружил с семьей Рейтлингер,
столь близких цветаевскому кругу. Есть параллели в понимании
значения энергетики языка у Сергея Булгакова, автора «Философии
имени», и у Марины Цветаевой, блестящего русского поэта; а
цветаевская «Повесть о Сонечке» может служить иллюстрацией к
булгаковской софиологии, окончательно оформленной только в
эмиграции, после «Спора о Софии».
Выставка представляет фонды двух музеев, — Мемориального
Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве и Мемориального Дома-музея
С.Н. Дурылина, входящих в Музейное объединение Королева, часть
которых экспонируется впервые, а также частных коллекций. Центром
выставочной экспозиции является уникальный предмет: стол из
собрания дурылинского музея, происходящий из семьи Федора
Булгакова и Натальи Нестеровой и, по легенде, принадлежавший Сергею
Николаевичу Булгакову.
НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
Из собрания Мемориального Дома-музея Марины Цветаевой в
Болшево:
уникальные рисунки Георгия Эфрона: три разных самолета с
эмблемой «Серп и молот» (советские) и один сбитый самолет
со свастикой (фашистский).
локоны волос Георгия-Мура, срезанные 29 апреля 1927 года
в Мёдоне, и конверт с автографом Марины Цветаевой, в
котором хранились эти локоны.
альбом, принадлежавший Анастасии Ивановне.Цветаевой, в
который вложена фотография Марины Цветаевой и Мура,
сделанная на Колониальной выставке в 1931 г., с автографом
Ариадны Сергеевны Эфрон;
собрание художественных и видовых открыток 1920-1930-х
годов, принадлежавших семье Марины Цветаевой (виды
Праги и Парижа)
документы и фотографии из семьи Цветаевых-Эфрон.
Из собрания Мемориального Дома-музея С.Н. Дурылина:
живописные работы Федора Булгакова: ранний этюд «Крым»
(1926) – дар внучки Михаила Нестерова Марии Ивановны
Титовой, и пейзаж конца 1960-х годов «Радонеж»,
эскиз к росписям Владимирского собора в Киеве художника
нестеровского круга Вильгельма Котарбинского
«Шестикрылый серафим»;
личные вещи Федора Сергеевича Булгакова: его палитра и
альбом с зарисовками,
документы и фотографии из семьи Булгаковых-Нестеровых.
Из частных коллекций:
прижизненные издания и фотографии Сергея Николаевича
Булгакова.
Выставка продлится до 10 октября 2021 года
Смерть не без причины // Jewish.Ru — Глобальный еврейский онлайн центр
Интеллигентного красавца Георгия Эфрона все считали высокомерным эгоистом. Его объявляли главным виновником самоубийства матери, Марины Цветаевой, и порицали за отсутствие патриотизма. Он же все свои недолгие 19 лет жизни отчаянно страдал: презирал мать, но постоянно вспоминал ее, не хотел воевать, но погиб, защищая Советский Союз.
Георгий Эфрон был третьим ребенком поэтессы Марины Цветаевой и литератора Сергея Эфрона. Он появился на свет 1 февраля 1925 года в Праге, куда Цветаева за три года до этого переехала со старшей дочерью Ариадной. Младшую, Ирину, мать потеряла еще в 1920-м – девочка умерла от голода в московском приюте. Вскоре после рождения мальчика семья в поисках лучшей жизни перебралась в Париж, однако вылезти из нищеты не получилось и здесь.
Первое время Цветаеву охотно печатали, но публикации постепенно сошли на нет, и семья жила в основном за счет «Комитета помощи Марине Цветаевой», основанного известными писателями, друзьями поэтессы. Храбрый в боях Сергей Эфрон оказался совершенно неприспособленным к обычной жизни. Он не хотел быть посредственностью в тени таланта жены, и несмотря на то, что идей у него всегда было много, довести начатое дело до конца никогда не получалось.
Цветаева словно чувствовала себя виноватой за то, что не уберегла Ирину, что родила Георгия в такое неспокойное время, что ее семья бедствует. Все эти эмоции, накопившиеся за последние годы, слились воедино и превратились в лавину материнской любви, которая обрушилась на Мура с первых дней его жизни. Мать постоянно писала о нем в дневниках, и любое проявление характера, жест или каприз мальчика могли стать поводом для очередной записи. Когда сыну не было еще и трех лет, Марина удивлялась, как он «чудно владеет словом», а когда исполнилось восемь, писала, что он «очень критичен и обладает острым, но трезвым умом».
Одаренность Георгия не была плодом воображения обожающей его матери – ребенок действительно начал говорить очень рано, а в шесть лет вовсю читал книги. Он был одновременно беззаботен и вдумчив, мог без умолку болтать об автомобилях и собирать для сестры букеты из листьев, но вместе с тем пытался самостоятельно переводить французские стихи и часто погружался в свои мысли. В 1935 году Марина и Сергей решили отдать сына в хорошую частную школу. Денег и так почти не было, и обучение влетало в копеечку, но Марина хотела, чтобы ее Мур получал только лучшее.
Тогда же, в середине 30-х, Сергей, который уже несколько лет активно сотрудничал с советскими спецслужбами, стал поднимать тему возвращения на родину. Марина, так и не сумевшая принять Октябрьскую революцию, говорила, что «той России больше нет», но дочь Ариадна приняла сторону отца и первой покинула Европу. Осенью 1937 года из Франции вынужден был бежать и Сергей – его обвинили в причастности к убийству бывшего агента советских спецслужб Игнатия Рейса. Цветаева осталась в Париже с 12-летним Муром.
После побега Сергея Эфрона от поэтессы отвернулась вся русская эмиграция, а допросы о деятельности ее мужа стали частью ежедневной реальности. В конце концов, мучимая плохими предчувствиями, Цветаева все-таки решила уехать вслед за дочерью и мужем, и летом 1939 года они с сыном ступили на российскую землю. Но и здесь семье не было покоя –вскоре после их приезда арестовали Ариадну, затем забрали Сергея, и в попытках все исправить Цветаева просто разрывалась на части. Она писала письма Берии с просьбой разобраться в деле мужа и дочери, ездила к ним на свидания и пыталась найти хоть какой-то заработок, чтобы вытянуть себя и сына. В это время Мур не знал, куда себя девать.
Уезжая в Россию, он думал, что отец – герой, смелый разведчик, и их ждет счастливая жизнь, но оказалось, что в СССР они с матерью снова превратились в бездомных и никому не нужных эмигрантов. Переезжая из одного подмосковного поселка в другой, Мур мечтал о нормальной жизни в столице, о новых знакомствах. Дневник, который он вел, заменял ему несуществующего друга. На его страницах юноша конспектировал мелкие события из жизни и размышлял над загадкой ареста сестры и отца. Отношения с матерью стали очень напряженными: Георгию не нравились ее «тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью» стихи, ее манера поведения, стиль речи. Он считал ее безнадежно устаревшей и неспособной подстроиться к наступившему времени.
Но кое-что все-таки приносило Муру радость – например, редкие встречи со старыми друзьями семьи, где можно было поболтать на французском и вкусно поесть (ему было только 15, растущий организм постоянно требовал еды). Юноша очень тосковал по общению, мечтал об отдельной комнате, о самостоятельности, и Марина Ивановна, видя его терзания, остро чувствовала свою вину. Георгий часто раздражался на мать. Если они шли по улице вместе, он старался держать дистанцию, а она, напротив, пыталась взять сына за руку, чем вызывала в нем еще больший гнев. К началу войны абсолютно все в жизни Мура потеряло ценность. Отца и сестру даже не думали выпускать, стихи матери не печатали, а сам он не вписывался ни в одно сообщество. Так и не ставший советским человеком, но уже переставший быть французом, Георгий не имел ни капли патриотизма, а московская интеллигенция казалась ему смешной – он видел в писательском круге лишь замаскированных под элиту обывателей.
Восьмого августа 1941 года мать и сын уехали в Елабугу. Видя, как Марина Ивановна усиленно ищет работу, Георгий тоже стал ходить по библиотекам и канцеляриям в поисках места для себя. Тогда в его дневнике появилась запись: «Мне жалко мать, но еще больше жалко себя самого». В Елабуге Мура раздражало все: сам город, их убогая комнатка в доме на улице Ворошилова, даже мальчишки, с которыми он общался. Впрочем, состояние Марины было еще хуже: 24 числа, отчаявшись найти работу, она взяла с собой шерсть для продажи и отправилась в Чистополь. «Настроение у нее – самоубийственное, – в тот день написал в дневнике Мур, – деньги тают, а работы нет». Его всегда раздражала неприспособленность матери к быту, поэтому, когда она вернулась, подавленная и поникшая, споры о дальнейшей их жизни возобновились. В конечном счете мать и сын решили переехать в Чистополь: сентябрь был уже близко, и Мура нужно было определять в школу. Запись о переезде появилась в дневнике Георгия 29 августа 1941 года, а через два дня хозяйка дома Анастасия Бредельщикова нашла Марину Цветаеву повешенной в сенях.
После смерти матери Мур все-таки приехал в Чистополь, обратился к поэту Николаю Асееву с просьбой о помощи, и тот устроил его в местный интернат. Не зная, с чего начать знакомство с новым воспитанником, который явно отличался от своих сверстников, старший педагог интерната Анна Стонова предложила Муру почитать ребятам стихи его матери. «Я их не знаю», – ледяным тоном ответил юноша. Позже Анна объясняла свою бестактность тем, что Георгий не создавал впечатления человека, несколько дней назад потерявшего мать. Он выглядел как самоуверенный красавец, внушал уважение, а вовсе не жалость.
Георгий провел в интернате меньше месяца, а затем по приглашению директора Литфонда вернулся в Москву. К тому моменту в столице творился полный бедлам – город находился на осадном положении. Мур искал поддержки и помощи у всех знакомых, но единственное, что ему советовали – уезжать поскорее. «Что со мною происходит? – в отчаянии писал он в дневнике 14 октября. – Каждое мое решение подвергается критике, и притом столь безжалостной, что немедленно превращается в решение диаметрально противоположное первому. Мое положение трагично из-за страшной внутренней опустошенности, которой я страдаю. Мысли о самоубийстве, о смерти как о самом достойном, лучшем выходе из проклятого “тупика”, о котором писала М. И.». Георгий Эфрон блуждал по полупустой Москве, растерянно глядя на людей, которые спешно покидали город в грузовиках, нагруженных домашним скарбом. Метро не работало. Сидя в пустых библиотеках, он зачитывался романами французских писателей, а затем до отвала объедался сладостями, купленными на вырученные от продажи вещей деньги. Конечно, Мур не знал, что в это же время по приговору тройки НКВД был расстрелян его отец – это случилось 16 октября 1941 года.
Новый этап в короткой, но полной событий жизни Георгия Эфрона начался 30 октября, когда он вместе с переводчиком Александром Кочетковым и его женой отправился в Ташкент. Жизнь в эвакуации оказалась для Мура невыносимой. На улице стояла ужасная жара, жилье было без каких-либо удобств, а перспектива пойти в армию, которой он всеми силами стремился избежать, вновь повисла над ним дамокловым мечом. Летом 1942 года Георгий получил угол в Доме писателей – крохотную комнатку без света, отопления и воды. В то время юноша подрабатывал художником – рисовал патриотические плакаты и карикатуры, писал лозунги – и дважды в неделю ходил в гости к Алексею Толстому. Несмотря на то, что Георгий, не без помощи знакомых писателей, добился права посещать их столовую, питание его было слишком скудным. В итоге оголодавший Мур украл и продал вещи хозяйки. Позже, когда та написала на него заявление в милицию, парень вынуждал московских родственников продавать вещи Цветаевой, чтобы вернуть все до копейки.
В те времена Ташкент был убежищем для многих известных людей, и Мур своим ироничным взглядом подмечал все нелепости жизни в писательской колонии. «Я нахожусь в постоянном и тесном общении с писательской средой, и уже успел познакомиться с ее нравами, специфическими особенностями, ужимками и гримасами. В будущем я смогу использовать этот богатейший материал», – писал Георгий. Сперва наладивший с Анной Ахматовой диалог, уже в середине 1942 года своенравный Мур рассорился с ней, и Анна открыто начала говорить, что считает Георгия виноватым в смерти матери. «Ахматова живет припеваючи, ее все холят, она окружена почитателями, официально опекается и пользуется всякими льготами, – писал Георгий своей сестре Але. – Подчас мне завидно – за маму. Она бы тоже могла быть в таком “ореоле людей”, жить в пуховиках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы. Но она этого не сделала, ибо никогда не была “богиней”, сфинксом, каким является Ахматова».
Георгий вернулся в Москву осенью 1943 года и почти сразу начал учебу в Литературном институте. Как вспоминал впоследствии писатель Анатолий Мошковский, Мур разительно отличался от остальных студентов, и не заметить его было невозможно. «26 ноября за столом неподалеку от меня появился новичок, и я узнал, что фамилия его Эфрон, зовут – Георгием. Он был тщательно причесан, на нем щегольски сидел синий пиджак с галстуком. Лицо у новичка было очень интеллигентное: высокий бледный лоб, орлиный нос и длинные узкие иронические губы. Во всем его облике чувствовалась порода – в четких чертах лица, в умных светло-серых глазах, в подбородке, даже в этой бледности».
Георгий был аристократом до мозга костей: свой скромный обед, состоящий из хлеба и вареной картошки, он всегда носил в чистом узелке, а остатки кожуры с холодных картофелин снимал с изяществом, которому могли бы позавидовать даже девушки. Мур мало общался с другими студентами, но с теми, кто попал в его окружение, был предельно откровенен. Своей подруге Норе Лапидус, которую он иногда провожал домой, Георгий даже рассказал, что считает себя отчасти виноватым в самоубийстве матери. По его словам, Марина Ивановна была очень эмоциональна и влюбчива, и он, будучи ребенком, не мог простить ей увлечений. Из-за ревности и обиды за отца он затаил в душе неприязнь, был черств и не оказывал сыновней поддержки, когда мать, одинокая и всеми покинутая, в этом нуждалась.
В конце февраля 1944 года Георгия призвали в армию. Как вспоминал Анатолий Мошковский, Мур «однажды забежал в институт в шинели, с зимней солдатской ушанкой под мышкой, обошел всех, пожал на прощание руки и ушел». Несмотря на то, что он никогда не был душой коллектива, многие сокурсники и педагоги выражали крайнюю обеспокоенность дальнейшей судьбой молодого человека. Спустя несколько месяцев в институт даже пришло письмо от Георгия, в котором он, явно полный надежд и оптимизма, изъявлял желание продолжить обучение, когда война закончится. Проникнувшись этим неожиданно добрым ироничным посланием, однокурсники написали коллективное письмо с байками о студенческой жизни и пожелали Эфрону поскорее вернуться. Увы, ответа они уже не получили.
Мур не был воином. Воспитанный на других ценностях и в другой стране, он не имел отчаянной храбрости и патриотизма, которые заставляют людей совершать героические поступки. Этот талантливый и образованный юноша должен был стать переводчиком или критиком, педагогом или писателем, но никак не солдатом. Зная характер сына, перед смертью Марина Ивановна оставила записку, в которой просила поэта Николая Асеева «не оставлять Мура, потому что он пропадет». Но Мура оставили, и он пропал –юноше было всего 19 лет, когда его смертельно ранили в бою под деревней Друйка 7 июля 1944-го. Лучше всего последние месяцы жизни юноши описывают его собственные слова, написанные задолго до трагичных событий: «Неумолимая машина рока добралась и до меня, и это не фатум произведений Чайковского – величавый, тревожный, ищущий и взывающий, – а Петрушка с дубиной, бессмысленный и злой».
На «Письмо к Амазонке» Марины Цветаевой
«ЛЮБОВЬ В СЕБЕ — это детство. Влюбленные — дети. У детей нет детей », — пишет русская поэтесса Марина Цветаева в« Письме к Амазонке ». «Нельзя жить любовью, — продолжает она. «Единственное, что переживает любовь, — это ребенок».В то время как взрослая жизнь Цветаевой была разорвана трагедиями, она сохраняла детскую способность любить. У нее были страстные эпистолярные романы с двумя другими легендарными поэтами ее времени, Борисом Пастернаком и Райнером Марией Рильке.Она также вела живую, часто откровенную переписку с другими изгнанниками, покровителями, литературными протеже, учеными, интеллектуалами и потенциальными любовниками. В качестве примера можно привести письмо 1932 года, адресованное из Парижа, где Цветаева жила бедной эмигранткой, Натали Барни, очаровательной наследнице американского железнодорожного состояния. Переведенный Адорой Филлипс и Гаэль Коган как «Письмо к Амазонке », он является образцом интенсивного эпистолярного стиля Цветаевой. Он колеблется между конфронтацией и соблазнением и бросает вызов Барни, поборнику романтических и сексуальных партнерств между женщинами.Влюбленные женщины не могут иметь детей вместе, говорит Цветаева, — это «единственное слабое место, единственная уязвимая точка, единственная брешь в идеальном единстве двух женщин, которые любят друг друга».
Тема однополого партнерства была в центре самого известного диалога Платона о любви, Симпозиум , в котором комик Аристофан рассказывает миф о первобытных людях, разделенных надвое разгневанными богами. Первоначальное насильственное деление заставляет каждого из нас искать другую половину, чтобы снова сделать нас целыми.Хотя большинство первоначальных людей были андрогинными (мужчина-женщина), некоторые состояли из двух женщин, а другие — из двух мужчин. По мнению Аристофана, это объясняет, почему некоторые из нас могут восстановить свою изначальную целостность только в однополых союзах. Сократ, как обычно, делает более радикальное заявление. Он считает, что наши эротические занятия движимы основным человеческим желанием — вечно обладать добром. В то время как большинство гетеросексуальных союзов, как правило, удовлетворяют это желание биологически — производя маленькие версии нас, смертных существ с ограниченной продолжительностью жизни, — лучшие формы союза приводят к более прочным и красивым потомкам, таким как акты героизма, произведения искусства и законы.Сократ говорит, что таких детей стоит иметь больше, потому что они более полно удовлетворяют желание своих родителей обрести бессмертие, причем независимо от пола и возраста своих родителей. Разве каждый из нас не предпочел бы отцом или матерью Илиаду или Конституцию США, а не обычного человеческого ребенка? Разве нет ничего пассивного в том, чтобы позволить нашим эротическим импульсам направить свои эротические импульсы на секс и деторождение, что по умолчанию установлено нашей животной природой?
Аргумент Цветаевой в ее эссе о том, что любовные отношения между двумя партнерами могут быть завершены только ребенком, должен поразить опытных читателей ее сочинений.В других своих произведениях Цветаева всегда настаивала на том, что, поскольку она поэт, она имеет право «стряхнуть» природные данности, включая собственное женское тело. Природа не имеет абсолютного авторитета: ее притязания на нас должны быть подвергнуты сомнению, и им следует противостоять. Тем не менее, завершая Письмо к Амазонке , Цветаева в качестве подкрепления аргументации приводит природу: «Природа говорит: нет. Запрещая это нам, она защищает себя. Бог, запрещая нам что-то, делает это из любви; Природа, запрещая нам, делает это из любви к себе, из ненависти ко всему, что ей не принадлежит.
Грубо говоря, природа эгоистична. Его не волнуют мы, наши причины и мотивы, наша любовь и наша целостность. Она предполагает, что человеческая природа, опережая на четыре десятилетия работу Ричарда Докинза «Эгоистичный ген » (1976) Ричарда Докинза (1976), заботится только о воспроизведении большего количества экземпляров самой себя. Но если это так, то почему мы должны прислушиваться к природе? Цветаева отвечает, что молодые женщины делают это «не задумываясь, с помощью чистого и тройного жизненного инстинкта — молодости, увековечения, утробы». Другими словами, наши инстинкты достаточно сильны, чтобы сорвать некоторые из наших самых заветных проектов и самых сокровенных обязательств.Поэтому Цветаева позиционирует однополую любовь как оскорбление природы.
Странно для Цветаевой писать. У нее были открытые, интимные отношения с женщинами. Ее цикл из 17 стихотворений «Подруга», посвященный ее возлюбленной, поэтессе Софии Парнок, содержит одни из самых захватывающих любовных стихов на русском языке. Однако здесь, в своем письме , она отвергает любовь между женщинами, и ее доводы убедительны. Что делает его неотразимым, так это психологическая мини-драма Цветаевой, в которой участвуют два влюбленных — Младший и Старший.Она позволяет нам взглянуть на серию эпизодов, как если бы через щель в двери, в ходе которых Старший Любовник признает все более выраженное желание Младшего иметь ребенка, «немного тебя, чтобы любить» и дистанцируется от нее. беспокойная возлюбленная, подталкивающая ее уйти. Из правдоподобного описания конкретной мини-драмы Цветаева делает обобщающий вывод: подобное напряжение преследует все случаи романтической и эротической любви между женщинами. Однако этот шаг мог быть просто провокацией.Барни был богатым человеком с хорошими связями, потенциальным покровителем. Тонко завуалированный исповедальный тон Цветаевой не только не желал оттолкнуть ее, но и предполагал, что она намеревалась подразнить женщину, которую называла «амазонкой» и «моим братом по женщине». Она хотела, чтобы Барни ответил.
Мнение о том, что аргумент Цветаевой является соблазнением, а мини-драма — формой приманки, дополнительно подтверждается вступительными абзацами письма . Цветаева описывает способность противостоять природе как форму достижения:
Отречение — мотивация? Да, потому что для управления силой требуется гораздо более горькое усилие, чем для ее высвобождения, а для этого совсем не требуется никаких усилий.В этом смысле вся естественная активность пассивна, в то время как вся желаемая пассивность активна (излияние — выносливость, подавление — действие). Что сложнее: удержать лошадь или дать ей бежать? И, учитывая, что мы сдерживаемая лошадь, что труднее: сдерживать или дать волю своей силе? […] Каждый раз, когда я сдаюсь, я чувствую дрожь внутри. Это я — земля, которая дрожит. Отказ? Борьба окаменела.
Природу нельзя дисциплинировать полностью — она будет продолжать прорваться, а иногда и побеждать.Вместо того, чтобы подчиняться его контролирующей силе, мы должны стремиться развивать самообладание. В конце концов, это наша собственная природа , которая восстает против целей, которые мы ставим перед собой.
В своем проницательном и содержательном вступлении ученый Екатерина Цепиела пишет, что «страстно изложенный случай Цветаевой теперь может вызывать сочувствие парам геев и лесбиянок, которые во всем мире борются за законное право рожать детей и строить семьи». Определяя стремление к биологическому воспроизводству как проистекающее из «эгоистичной природы», чьему авторитету над нами у нас есть причины сопротивляться, эссе Цветаевой также побуждает нас пересмотреть наши представления о браке и семье и продолжать думать о других способах быть вместе — а также иметь детей и заботиться о них.
¤
Оксана Максимчук — переводчик и автор двух сборников стихов на украинском языке. Она преподает философию в Университете Арканзаса.
Макс Росочинский — переводчик и поэт из Симферополя, Крым. Он работает над монографией на стихи Марины Цветаевой.
Марина Цветаева | Фонд Поэзии
Русская поэтесса Марина Цветаева (также Марина Цветаева и Марина Цветаева) родилась в Москве.Ее отец был профессором и основателем Музея изящных искусств, а мать, умершая от туберкулеза, когда Марине было 14 лет, была пианисткой. В 18 лет Цветаева выпустила свой первый сборник стихов «Вечерний альбом ». При жизни писала стихи, стихотворные пьесы и прозаические произведения; она считается одним из самых известных поэтов России ХХ века.
Жизнь Цветаевой совпала с бурными годами в истории России. В 1912 году она вышла замуж за Сергея Эфрона; у них родились две дочери, а позже — сын.Ефрон присоединился к Белой армии, и Цветаева была отделена от него во время Гражданской войны. У нее был короткий роман с Осипом Мандельштамом, а более длительные — с Софией Парнок. Во время московского голода Цветаева была вынуждена отдать дочерей в государственный детский дом, где младшая Ирина умерла от голода в 1919 году. В 1922 году она эмигрировала с семьей в Берлин, затем в Прагу, а в 1925 году поселилась в Париже. Пэрис, семья жила бедно. Сергей Эфрон работал на советскую тайную полицию, а Цветаева избегала русских эмигрантов в Париже.В годы лишения и ссылки поэзия и общение с поэтами поддерживали Цветаеву. Она переписывалась с Райнером Марией Рильке и Борисом Пастернаком, а работу посвятила Анне Ахматовой.
В 1939 году Цветаева вернулась в Советский Союз. Эфрон была казнена, а оставшаяся в живых дочь отправлена в трудовой лагерь. Когда немецкая армия вторглась в СССР, Цветаева вместе с сыном была эвакуирована в Елабугу. Она повесилась 31 августа 1941 года.
Критики и переводчики творчества Цветаевой часто отмечают страстность ее стихов, их быстрые изменения и необычный синтаксис, а также влияние народных песен.Она также известна своим изображением женских переживаний в «страшные годы» (так описал период российской истории Александр Блок).
Сборники стихов Цветаевой, переведенные на английский язык, включают Избранные стихотворения Марины Цветаевой в переводе Элейн Файнштейн (1971, 1994). О ней написано несколько биографий, а также сборник мемуаров «Нет любви без поэзии» (2009) ее дочери Ариадны Эфрон (1912–1975).
Эта судьбоносная русская поэтесса, страдающая романтикой и революциями, любила и жила трагически | Нина Рената Арон
«Два с половиной дня — ни кусочка, ни ласточка», — писала русская поэтесса Марина Цветаева в октябре 1917 года, когда поезд вез ее из Крыма обратно в ее родную Москву, чтобы посмотреть, что там. слева от него.За несколько дней до этого большевики подняли восстание против шаткого Временного правительства в России, положив начало революции. «Солдаты приносят газеты — напечатанные на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны », — продолжила она. «Дом, где кадеты и офицеры отказывались сдаваться, взорван. 16000 убиты. На следующей станции до 25000. Я не говорю. Я курю.»
Цветаева тогда не могла знать, что переживает одно из самых значительных потрясений в истории своей страны и ХХ века.Как и большинство ее соотечественников, она мало что знала. Русская революция ворвалась в жизнь Цветаевой так же, как и для многих, особенно выходцев из аристократии, — сразу поставив под сомнение состояние ее дома, средств к существованию и будущего. Поразительный размах террора и дестабилизации, вызванных революцией, особенно очевиден в жизни Цветаевой, и она станет одним из самых ярких и страстных голосов в русской литературе.
В то время она навещала свою сестру Анастасию и боялась, что вернется в Москву, чтобы найти своего мужа и двух дочерей — четырехлетнего и шестимесячного — ранеными или мертвыми.С ними все было в порядке, хотя это событие безвозвратно изменило бы их жизнь. Вскоре после революции муж Цветаевой, уже военный офицер, присоединился к антибольшевистской Белой армии, которая продолжит кровавую гражданскую войну против красных. Цветаева не видела его четыре года, и первые три года от него не было вестей.
Внезапно Цветаева оказалась обездоленной и одинокой в пугающей новой реальности с двумя маленькими детьми, ее семейный дом «разобрали на дрова».Как художник и член аристократии, у нее никогда не было подработки, но теперь она устроилась на работу в Наркомнац, где ворчливо встретила удивительно разнообразный состав новых советских граждан. Работа длилась недолго. Цветаева часто писала в течение этого периода, вела тетради и дневники, в которых она записывала головокружительные преобразования политической и повседневной жизни, происходящие вокруг нее. Эти записи собраны в томе Earthly Signs: Moscow Diaries 1917–1922 , который вскоре будет переиздан New York Review Books.Взятые вместе, записи являются мощным напоминанием о том, что искусство может спасти вас, или убить, или и то, и другое.
Марина Цветаева, 1892–1941. (Fine Art Images / Heritage Images через Getty Images)Как пишет переводчик Джейми Гэмбрелл во введении к сборнику, дневник предлагал Цветаевой свободу работать вне каких-либо литературных условностей или профессионального давления, а также структуру, необходимую для того, чтобы опоясать полный хаос послереволюционной жизни. Она включает в свои дневники воспоминания о своей юности, обрывки разговоров с детьми и друзьями, размышления о поэзии, наблюдения и критику быстрых изменений в российской столице и языке, а также вызывающие воспоминания отрывистые взгляды на повседневную жизнь, как утверждает Гамбрелл. не просто биографическая сущность, но «сами по себе являются выдающимся историческим документом.Один отрывок, описывающий очевидный налет, гласит: «Крики, крики, звон золота, старушки с непокрытыми головами, изрезанные перины, штыки… Они обыскивают все». Несколькими страницами позже: «Рынок. Юбки — поросята — тыквы — петухи. Умиротворяющая и завораживающая красота женских лиц. Все темноглазые и все в ожерельях ».
Она резко пишет о собственном одиночестве и отчуждении. «Я со всех сторон изгой: для хама я« бедный »(чулки дешевые, без бриллиантов), для хама -« буржуа », для свекрови -« бывший человек », для Красные солдаты — гордая, коротко стриженная барышня.О покупках она пишет: «Продуктовые магазины теперь напоминают витрины салонов красоты: все сыры — аспики — пирожные — ни на йоту не живее восковых кукол. Тот самый легкий ужас ». И о ее собственной бедности, все еще мрачно ошеломляющей новизны: «Я живу и сплю в одном и том же ужасающе сморщенном коричневом фланелевом платье, сшитом в Александрове весной 1917 года, когда меня там не было. Все в дырах от падающих углей и сигарет. Рукава, собранные на резинке, закатываются и застегиваются английской булавкой.
Она брала крохотные раздаточные материалы от друзей, частичную работу там, где могла их получить, и получала гроши за то, что читала свою работу вслух. В конце концов, она отправила свою младшую дочь Ирину в государственный детский дом, думая, что ее лучше накормят. Вскоре ребенок умер от голода, еще больше погрузив Цветаеву в смятение и горе.
Цветаева родилась в 1892 году в семье профессора искусств Московского университета и пианистки. До того, как ей исполнилось 20 лет, она впитала в себя многое из мира.Она была заядлым и всеядным читателем, особенно интересовалась литературой и историей, а подростком училась во Франции и Швейцарии. В детстве семья жила за границей, ища более справедливый климат и санатории, чтобы лечить туберкулез матери Марины, убивший ее в 1906 году.
Союз родителей Цветаевой был вторым браком для ее отца, который впоследствии основал то, что сейчас известный как Пушкинский музей, и для ее матери, у которой до этого были серьезные отношения.По большому счету, этих двоих преследовала их прошлая любовь, от которой они так и не оправились. У Цветаевой и ее сестры было двое сводных братьев и сестер от первого брака ее отца, с которыми ее мать никогда не ладила.
Это, пожалуй, одна из причин, по которой Цветаева на протяжении всей жизни оставалась почти фанатичной поклонницей любви во многих ее проявлениях. Как пишут Оксана Мамсымчук и Макс Розочинский в Los Angeles Review of Books , несмотря на полную трагедий жизнь, Цветаева «сохраняла детскую способность любить» и писала в своем стихотворении «Письмо к Амазонке, » «любовь». само детство.
Она страстно погрузилась в то, что ее муж Сергей Эфрон в письме другу назвал «ее ураганами», продолжая бессчетные эпистолярные романы и полномасштабные эротические романы. «Важно не , что , а , как, », — продолжил Эфрон. «Не суть или источник, а ритм, безумный ритм. Сегодня — отчаяние; завтра — экстаз, любовь, полное самоотречение; а на следующий день — снова отчаяние ».
Она встретила Сергея Эфрона в Коктебеле, своего рода приморской колонии художников в Крыму в 1911 году.Эфрон, тоже поэт, обладал той трагедией, которую, кажется, тяготела к Цветаевой. Он был шестым из девяти детей. Его отец, работавший страховым агентом, умер, когда он был подростком. Год спустя один из его братьев покончил с собой. Его мать, узнав о смерти сына, покончила с собой на следующий день.
Софья Парнок была возлюбленной и музой Цветаевой в России. (Wikimedia)Цветаева и Ефрон быстро полюбили друг друга и на следующий год поженились (оба были еще подростками), хотя Цветаева продолжала вести дела, в первую очередь с поэтом Осипом Мандельштамом, о котором она написала цикл «Вехи». стихи часто считались ее лучшими.Любовь, которую любила Цветаева, временами сродни детству, а временами бурная и мучительная, возможно, лучше всего иллюстрируется в другом ее значительном романе с поэтессой Софьей Парнок. Цветаева написала цикл стихов «Подруга» о Парноке (преподнося ее ей в подарок), тон ее чередовался то игривый, то насмешливый, то жестокий. Парнок, со своей стороны, писал стихи, предсказывая кончину пары. По словам русского литературоведа Дайаны Льюис Бургин, их страсть, «похоже, была одной из тех, что подпитывались влечением к собственной гибели.
В 1922 году Цветаева покинула СССР со своей выжившей дочерью и воссоединилась с Эфроном в Берлине. Затем семья переехала в Прагу. В 1925 году у нее родился сын Георгий. Летом 1926 года Цветаева срочно, лихорадочно переписывалась с двумя титанами европейской литературы — Борисом Пастернаком и Райнером Марией Рильке. В этих коротких, ярких отношениях (Рильке умер в 1926 году; Цветаева и Пастернак продолжали писать друг друга) та же неудержимая и мучительная искра, та же одержимость навязчивой идеей, которая характеризует большую часть биографии и поэзии Цветаевой.
Она провела 1930-е годы в основном в Париже, демонстрируя то, что русская писательница Нина Берберова называет «особой мерзостью парижских художников и поэтов в период между двумя войнами». Она заболела туберкулезом и жила на небольшую стипендию художника от чешского правительства и все, что могла заработать, продавая свои работы. Она написала Пастернаку о своем отчуждении, сказав: «Они не любят поэзию и что я, кроме этого, не поэзии, а того, из чего она сделана. [Я] негостеприимная хозяйка.Молодая женщина в старом платье ».
За исключением учебников истории, революции не суммируются точно. Скорее, они исходят бесчисленным множеством способов. Несмотря на то, что они жили за границей, семья Цветаевой столкнулась со всей батареей советских ужасов. Эфрон и выжившая дочь пары Ариадна тосковали по СССР и в конце концов вернулись в 1937 году. Эфрон к тому времени работал в НКВД (советские силы безопасности до КГБ), как и жених Ариадны, шпионивший за семьей. Обвиненные в шпионаже в разгар сталинского террора, оба были арестованы.Эфрон был казнен в 1941 году. Ариадна была приговорена к восьми годам колонии. Еще около десяти лет она провела в тюрьмах и в ссылке в Сибири. Сестра Цветаевой Анастасия также попала в тюрьму; она жила, но они никогда больше не виделись.
«ПРАВДА — ЭТО ПЕРЕГОВОР», — написала Цветаева много лет назад в письме другу.
В 1939 году Цветаева также вернулась в свой родной город Москву, но ее перевели в Елабугу, небольшой городок в Татарстане, чтобы избежать наступления немецкой армии.Писательница Нина Берберова вспоминает, как видела Цветаеву незадолго до ее отъезда в Москву в 1939 году на похоронах другого поэта в Париже. О встрече она пишет: «У нее были седые волосы, серые глаза и серое лицо. Ее большие руки, грубые и грубые, руки уборщицы, были сложены на животе, и у нее была странная беззубая улыбка. И я, как и все, прошел мимо, не поздоровавшись с ней ».
Два года спустя, еще в Елабуге, Цветаева покончила с собой. Она оставила письмо своему 16-летнему сыну (который был призван в армию и через несколько лет погиб в бою), в котором говорилось: «Простите меня, но было бы только хуже.Я серьезно болен, это уже не я. Я люблю тебя безумно. Поймите, что я больше не могу жить. Скажи папе и Але, если увидишь их, что я любил их до последней минуты, и объясни, что я зашел в тупик ». Ее похоронили в безымянной могиле.
Последние дни Марины Цветаевой Ирма Кудрова, автор, Мэри Энн Шпорлюк, переводчик, Эллендея Проффер, Вступительное слово, пер. с русского Мэри Энн Шпорлюк. Посмотреть 22,95 долл. США (232 пункта) ISBN 978-1-58567-522-7
Ирма Кудрова, автор, Мэри Энн Шпорлюк, переводчик, Эллендеа Проффер, Вступление , пер.с русского Мэри Энн Шпорлюк. Посмотреть 22,95 долл. США (232 пункта) ISBN 978-1-58567-522-7
Опираясь на интервью, дневники и недавно появившиеся записи КГБ, Кудрова, писавшая о жизни и творчестве Марины Цветаевой (1892–1941), подробно описывает последние годы русского поэта перед самоубийством в возрасте 49 лет. перевод, повествование Кудровой неизменно захватывающе и источает ауру безжалостной трагедии.В 1922 году поэт уехала из Москвы к своему мужу Эфрону, который был вынужден эмигрировать в Париж по политическим причинам. С сыном Муром и дочерью Алей (другая дочь умерла ранее от недоедания) она жила там и продолжала писать стихи. В 1937 году Эфрону, работавшему в советской тайной полиции, было приказано вернуться в Россию, где сейчас жила Аля. В 1938 году за ними последовали Цветаева и их сын, и на какое-то время все они были размещены государством на даче в Болшево. Цветаева, фактически заключенная, имела мало общего с литературным миром России.Нет никаких свидетельств того, что с ней в это время даже связался ее друг Борис Пастернак. После ареста мужа и дочери она впала в депрессию. Кудрова удачно передает мир России 1930-х годов, где никто не был застрахован от чисток и информаторов; судебные процессы и казни были обычным явлением. Автор прослеживает отчаянные попытки Цветаевой найти работу, которая поддерживала бы ее и Мур, — безуспешные поиски, которые закончились, когда она повесилась. Хотя Кудрова называет несколько причин — психическое заболевание, политическое преследование — решения Цветаевой покончить с собой, можно сделать вывод, что ее просто потрясли тяжелые условия жизни.Кудрово продолжает свой душераздирающий рассказ: под давлением допросов Эфрон и Аля доносились друг на друга; Алю отправили в тюрьму, а Эфрона расстреляли через два месяца после самоубийства Цветаевой. Фотографии. (фев)
Цветаева, Марина | Encyclopedia.com
РОДИЛСЯ: 1892, Москва, Россия
УМЕР: 1941, Елабуга, Россия
ГРАЖДАНСТВО: Русский
ЖАНР: Поэзия, фантастика 9000OR7 9000 Стихи: Выпуск I (1916)
Вехи: Стихи: Выпуск II (1921)
«Ливень света» (1922)
Ремесло (1923)
После России (1928)
Обзор
Вдоль Вместе с Анной Ахматовой, Осипом Мандельштам и Борисом Пастернаком Марина Цветаева входит в российский «поэтический квартет» — группу важных авторов, чьи произведения отражают изменение ценностей в России в первые десятилетия двадцатого века.Центральным интересом Цветаевой как поэтессы был язык, а стилистические новшества, проявленные в ее творчестве, считаются уникальным вкладом в русскую литературу.
Биографические и исторические произведения
Привилегированное детство и поэзия Марина Иванова Цветаева (также транслитерированная как Цветаева, Цветаева и Цветаева) родилась в Москве в семье профессора истории искусств Ивана Цветаева и пианистки Марины Цветаевой. . Цветаева выросла в Москве в семье среднего достатка, известной своими творческими и научными интересами.Ее отец был основателем Музея изящных искусств, а ее талантливая и образованная мать подтолкнула Марину к музыкальной карьере. Посещая школы в Швейцарии, Германии и Сорбонну в Париже, Цветаева предпочитала писать стихи.
Две книги, брак и несколько дел В 1910 году, когда Цветаевой было восемнадцать лет, ее первый сборник, Evening Album , был издан частным образом. Этот том получил неожиданное внимание, когда его рецензировали выдающийся критик Макс Волошин и поэты Николай Гумилев и Валерий Брюсов, все из которых положительно написали
произведений Цветаевой.В 1911 году Цветаева издала второй сборник стихов, Волшебный фонарь, , а в следующем году вышла замуж за Сергея Ефрона. На протяжении всего брака Цветаева преследовала романтические связи с другими поэтами, следуя образцу увлечения и разочарования, который она установила в подростковом возрасте.
Гражданская война в России Во время гражданской войны в России, которая длилась с 1918 по 1921 год, Цветаева бедно жила в Москве, а ее муж воевал в Крыму в качестве офицера царской Белой армии.Гражданская война в России осложнялась присутствием нескольких противоборствующих военных группировок, но ее основными противниками были большевистская, или Красная, армия, получившая широкие полномочия после Рабочей революции 1917 года, и царская Белая армия, отчаянно борющаяся за власть. восстановить старый политический порядок. Цветаева много писала в это время, сочиняя стихи, эссе, мемуары и драмы. Но антибольшевистские настроения, пронизывающие многие из этих работ, помешали их публикации. Во время голода в 1919 году младший из двух ее детей умер от голода, а в 1922 году (через год после победы большевиков в гражданской войне и в год смерти их лидера Владимира Ленина) Цветаева иммигрировала со своим выжившим ребенком Ариадной. в Германию.Там — после пяти лет разлуки в военное время — она воссоединилась с Эфроном.
Адамант просоветская позиция Пока семья Цветаевой жила в Берлине, а затем в Праге, где в 1925 году родился ее сын Георгий, она начала публиковать произведения, написанные за предыдущее десятилетие. Они нашли признание у российских критиков и читателей, живущих в изгнании. Переехав в Париж, Цветаева продолжала писать стихи, но изменение политики привело ее в немилость. Репутация Цветаевой среди других писателей-эмигрантов начала ухудшаться — в основном из-за ее отказа принять воинствующую антисоветскую позицию многих эмигрантов и просоветской деятельности ее мужа (к этому моменту Эфрон так полностью перешел на другую сторону, что стал коммунистическим агентом). ).
Сталинский террор, Вторая мировая война и самоубийства Эфрон и дочь Ариадна вернулись в Россию в 1937 году. Цветаева, к которой в Париже относились равнодушно русские эмигранты, в 1939 году родила сына Георгия. В то время художники и интеллектуалы, особенно связанные с Западом, подвергались риску из-за экстремистской политики Иосифа Сталина, которая включала параноидальные и, что еще хуже, глубоко произвольные пытки и казни предполагаемых врагов государства.Семья воссоединилась в Москве ненадолго, прежде чем Эфрон и Ариадна были арестованы, а Эфрону было предъявлено обвинение в антисоветском шпионаже.
Когда немецкие войска напали на Москву в 1941 году, нарушив Пакт о ненападении, который Сталин тайно подписал с немецким нацистским лидером Адольфом Гитлером в начале Второй мировой войны (1939–1945), Цветаева и Георгий были эвакуированы в деревню Елабуга в Татарская Республика. Расстроенная арестом и возможной казнью мужа и дочери, лишенная права публиковаться и неспособная содержать себя и сына, Цветаева покончила с собой.
Произведения в литературном контексте
Русское влияние На творчество Цветаевой значительно повлияли произведения ее современников и события, связанные с русской революцией. Тем не менее, она оставалась в значительной степени независимой от многочисленных литературных и политических движений, процветавших в эту бурную эпоху, возможно, из-за силы впечатлений, оставленных на нее ее эклектичным читательским интересом. Вечерний альбом (1910), например, несет сильное влияние чтений молодой Цветаевой, которые включали много второсортной поэзии и прозы.В Mile-post: Poems: Issue I (1916) она вдохновлена архитектурным и религиозным наследием Москвы, возможно, благодаря творчеству Каролины Карловны Павловой, одного из ее любимых поэтов.
Многочисленные интриги Цветаевой, зачастую не связанные с сексом, также оказали явное влияние; она считала их по сути духовными по своей природе, и им приписывают глубокую эмоциональную окраску ее стихов, а также вдохновляющие стихи, посвященные Осипу Мандельштаму, Александру Блоку и Райнеру Марии Рильке.Лирические диалоги Цветаевой с Блоком, Мандельштамом и Ахматовой в фильме Mileposts сосредоточены на темах России, поэзии и любви. Основывая свои стихи преимущественно на личном опыте, Цветаева также с большей отстраненностью исследовала такие философские темы, как природа времени и пространства.
Русский народный стиль Цветаева рано выработала поэтические черты, которые во многом сохранились в ее последующих сборниках. Оба тома Mileposts отмечены необычайной силой и прямотой языка.Идеи тревоги, беспокойства и стихийной силы подчеркиваются языком, поскольку Цветаева опирается на обычную региональную речь и обращается к народным песням и русской поэзии восемнадцатого века. Ее интерес к языку проявляется в игре слов и лингвистических экспериментах над стихами. Ученые также отметили интенсивность и энергию глаголов в ее стихах и ее любовь к темным цветам. На уровне образов преобладает архетипический и традиционный символизм, например, в ее использовании ночи, ветра, открытых пространств и птиц.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СОВРЕМЕННИКИ
Известные современники Цветаевой:
Шарль де Голль (1890–1970): французский генерал и лидер Свободных французских сил, он основал Пятую французскую республику и стал ее первым президентом. .
Владимир Маяковский (1893–1930): Русский поэт и драматург, он считается одним из предшественников русского футуризма.
Пабло Неруда (1904–1973): чилийский поэт, писатель и политический коммунист; его получение в 1971 году Нобелевской премии по литературе вызвало много споров.
Франклин Делано Рузвельт (1882–1945): американский политик и тридцать второй президент Соединенных Штатов, он был настолько популярен среди людей, что был избран на этот пост на четыре срока.
Эдит Штайн (1891–1942): монахиня-кармелитка и немецкий философ, она стала мученицей католической церкви после гибели в Освенциме.
В начале 1920-х Цветаева экспериментировала с повествовательными стихами. Она адаптировала традиционные русские народные сказки в произведениях Король-Дева (1922) и Свейн (1924).В томе После России (1928) она объединила свой ранний романтический стиль с региональной дикцией. В 30-е годы Цветаева уделяла больше энергии прозе, чем поэзии. В таких мемуарах, как «Плененный дух» и «Мой Пушкин» (оба опубликованы в Contemporary Annals в 1934 и 1937 годах соответственно), она записала свои впечатления от друзей и поэтов. В стиле прозы, характеризующемся повествовательной техникой потока сознания и поэтическим языком, Цветаева выразила свои взгляды на литературное творчество и критику в таких эссе, как «Искусство в свете совести» и «Поэт о критике» (оба опубликованы в г. Современная летопись в 1932 г.).
Работы в критическом контексте
После ее смерти Марина Цветаева и ее работы были практически забыты. В Советском Союзе ее имя многие годы не упоминали. Затем стали появляться ее посмертные публикации, и вскоре она получила признание как один из величайших русских поэтов всех времен. Настоящий культ Цветаевой сложился в России и за ее пределами. Сегодня она всемирно известный поэт и объект многих научных исследований, которые не уступают критике Пастернака, Мандельштама, Ахматовой и даже классиков Золотого века России.Эта репутация частично проистекает из более ранних стихов Цветаевой. Craft (1923), последний сборник стихов Цветаевой, завершенный перед ее эмиграцией, хвалит за метрические эксперименты и эффективное смешение народного языка, архаизмов и библейских идиом. После России (1928) был назван критиками, такими как Саймон Карлински, «самой зрелой и совершенной из ее коллекций».
Еще больше свидетельствуют о ее литературных достоинствах зрелые стихи Цветаевой и даже ее первое стихотворное произведение « Evening Album ».
Evening Album (1910) Написана почти полностью до того, как ей исполнилось восемнадцать, Evening Album считается произведением технической виртуозности. Иногда незрелые темы тома не заслоняют мастерство Цветаевой в традиционных русских лирических формах. На момент публикации это сразу же было замечено ведущими критиками, которые дали книге положительные отзывы и подчеркнули ее интимность и свежесть тона. Валерий Яковлевич Брюсов, который в статье 1911 года «Новые стихотворные сборники» в книге «Русская мысль » высказал некоторые оговорки по поводу бытовых тем и банальных идей Цветаевой, тем не менее назвал ее «несомненно талантливым» автором, способным создать «настоящую поэзию мировоззрения». интимная жизнь.Еще раз отражая критическое отношение того времени, Николай Сергеевич Гумилев с энтузиазмом писал о непосредственности и смелости Цветаевой, заключая в своей статье 1911 года «Письма о русской поэзии» в Apollo : «Здесь инстинктивно угадывались все основные законы поэзии. так что эта книга — не просто книга очаровательных девичьих признаний, но и книга прекрасных стихов ».
После ее первоначального успеха и популярности у Цветаевой в значительной степени пренебрегли из-за ее экспериментального стиля и ее отказа занять про- или антисоветскую позицию.Недавние критики считают ее работы одной из самых новаторских и сильных русской поэзии двадцатого века, а такие ученые, как Анджела Ливингстон, писали: «Эмоциональная, но не« женственная »поэтесса, она избегает всякой сладостной сентиментальности и вместо этого любит, ненавидит, хвалит. , критикует, сетует, восхищается, стремится… с некоторой непоколебимой физичностью, всегда подталкивая страсти и позиции к точке, в которой они полностью раскрываются ».
ОБЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОПЫТ
Вот несколько произведений писателей, которые, как Цветаева, также воздавали дань уважения своей родине, народам и другим писателям в народных сказках, стихах, текстах и прозе:
Folktales of Greece ( 1970), сборник под редакцией Георгиоса А.Мегас. В этот сборник вошли такие рассказы, как «Миндальное семя и альмонделла» и «Брат и сестра».
Popular Tales of the West Highlands (1890), собрание Джона Фрэнсиса Кэмпбелла. Эти сказки родом из Шотландии и включают такие названия, как «Повесть о королеве, которая искала выпить из определенного колодца».
Владимир Ильич Ленин (1925), стихотворение Владимира Маяковского. Это стихотворение, состоящее из трех тысяч строк, было высокой данью уважения Ленину после его смерти.
Отзывы на литературу
- На Цветаеву и ее творчество повлияли события гражданской войны в России, когда поэт жила в бедности в Москве, а ее муж воевал в Крыму в качестве офицера царской Белой армии. Изучите гражданскую войну в России. Как это конкретно повлияло на мирных жителей? Как это влияние отражено в творчестве Цветаевой?
- Цветаева проявляла антибольшевистские настроения в своих стихах, пьесах, журналах и рассказах. Этот факт мешал публикации ее сочинений на несколько лет.Выберите стихотворение Цветаевой, которое, по вашему мнению, могло иметь столь противоречивые политические послания (вам, возможно, потребуется изучить большевиков, чтобы понять этот контекст). Объясните, почему это стихотворение могло быть такой угрозой, используя подробный анализ отрывков из стихотворения, чтобы добавить глубины своей позиции.
- В своих произведениях Цветаева любит народные песни, народные частушки и русскую поэзию XVIII века. Изучите русскую народную традицию, мифологию или историю, чтобы глубже понять людей, написанных Цветаевой.Как бы вы охарактеризовали типичных русских того времени? Хорошо ли они изображены в ее работах? Какие ценности проявляются в творчестве поэта? Что вы узнали о русской традиции из сочинений Цветаевой?
- Творчество Цветаевой хвалили за лиризм и «интуитивное» понимание того, что движет человеческой душой. Проанализируйте эмоциональный эффект одного из ее стихотворений, который вас особенно поразит; объяснять различные элементы поэзии, которые она использует для создания определенных образов и пробуждения определенных чувств у читателя.Помогите своему читателю понять, в конце концов, , как работает стихотворение.
БИБЛИОГРАФИЯ
Книги
Брюсов Валерий Яковлевич. Среды стихов 1894–1924: Manifesty, stat’i, resenzii . Составили Николай Алексеевич Богомолов и Николай Всеволодович Котрелев. М .: Советский писатель, 1990.
Гумилев Николай Сергеевич. «Письма о русской поэзии». В Собрание сочинений , с. 262, 293–294. Вашингтон, округ Колумбия: Виктор Камкин, 1968.
Карлинский, Симон. Марина Цветаева: ее жизнь и искусство . Беркли: Калифорнийский университет Press, 1966.
———. Марина Цветаева: женщина, ее мир и ее поэзия . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1985.
Карлински, Саймон и Альфред Аппель младший, ред. Горький воздух изгнания: русские писатели на Западе, 1922–1972 гг. . Беркли: University of California Press, 1977.
Пастернак, Евгений, Елена Пастернак и Константин М.Азадовский, ред. Письма, лето 1926: Борис Пастернак, Марина Цветаева, Райнер Мария Рильке . Перевод Маргарет Веттлин и Уолтер Арндт. Нью-Йорк: Харкорт, 1985; перепечатано, Oxford University Press, 1988.
Цветаева, Марина, Неопубликованные письма . Под редакцией Глеба Струве и Никиты Струве. Париж: YMCA-Press, 1972.
Periodicals
Burgin, Diana Lewis. «После бала: творческие отношения Софьи Парнок с Мариной Цветаевой.» Российское обозрение 47 (1988): 425–44.
Ciepiela, «Серьезное отношение к монологизму:« Крысолов »Бахтина и Цветаевой». Slavic Review 4 (1994): 1010–24.
Форрестер, Сибелан. «Колокола и купола: формирующая роль женского тела в поэзии Марины Цветаевой». Slavic Review 2 (1992): 232–46.
Гоув, Антонина Ф. «Женский стереотип и за его пределами: конфликт ролей и разрешение в поэтике Марины Цветаевой». Slavic Review 2 (1977): 231–55.
Холл, Брюс. «« Самая дикая из дисгармоний »: лакановское прочтение цикла« Провода »Цветаевой в контексте других его значений». Славянский и восточноевропейский журнал 1 (1996): 27–44.
Хельдт, Барбара. «Два стихотворения Марины Цветаевой из После России ». Modern Language Review 3 (1982): 679–87.
Сайты
Кнеллер, Андрей. Переводы Марины Цветаевой: Избранные стихи и ссылки . Получено 31 марта 2008 г. с сайта http: // home.comcast.net/~kneller/tsvetaeva.html.
Маневич, Вадим и Олеся Петровы. Наследие Марины Цветаевой . Получено 31 марта 2008 г. с сайта http://english.tsvetayeva.com/.
Мир Марины Цветаевой . Получено 31 марта 2008 г. с сайта http://www.ipmce.su/~tsvet/.
О сопротивлении Марине Цветаевой на JSTOR
AbstractПоэзия Марины Цветаевой, как и поэзия Сильвии Плат, драматизирует проблемы первичного психологического и сексуального опыта, вопросы, которые многие критики считают чисто биографическими.Откровенно апострофический характер творчества Цветаевой вызвал критические суждения о ее характере. Обращение Цветаевой, как в ее текстах, так и в письмах, смущает — не потому, как утверждает Джонатан Каллер, потому что апостроф никогда не выполняет своих требований, а потому, что, как утверждает Барбара Джонсон, потому, что это голое выражение потребности. Лакановская концепция Джонсона апострофа как требования ребенка проливает свет на творчество Цветаевой и помогает объяснить, почему Цветаеву обвиняют в том, что она плохая мать.Однако практика Цветаевой показывает, что далеко не противоречивые импульсы, требования и уступчивость трудно отличить — путаница, которая отражается в амбивалентных реакциях, вызванных ее работой.
Информация о журналеPMLA — это журнал Американской ассоциации современного языка. С 1884 года PMLA публикует эссе своих членов, которые представляют интерес для ученых и учителей языка и литературы. Четыре выпуска ежегодно (январь, март, май и октябрь) содержат эссе по языку и литературе; в выпуске Справочника (сентябрь) перечислены все члены, а также имена и адреса отделов и администраторов программ; а в ноябрьском номере представлена программа ежегодного съезда ассоциации.Каждый выпуск PMLA рассылается по почте более чем 29 000 членов MLA и 2 900 библиотекам по всему миру.
Информация для издателейCambridge University Press (www.cambridge.org) — издательское подразделение Кембриджского университета, одного из ведущих исследовательских институтов мира и лауреата 81 Нобелевской премии. В соответствии со своим уставом издательство Cambridge University Press стремится максимально широко распространять знания по всему миру. Он издает более 2500 книг в год для распространения в более чем 200 странах.Cambridge Journals издает более 250 рецензируемых научных журналов по широкому спектру предметных областей в печатных и онлайн-версиях. Многие из этих журналов являются ведущими научными публикациями в своих областях, и вместе они составляют одну из наиболее ценных и всеобъемлющих областей исследований, доступных сегодня. Для получения дополнительной информации посетите http://journals.cambridge.org.
деревьев VI — Слова без границ
Марина Цветаева
Марина Цветаева широко признана критиками и российскими читателями как ведущий русский поэт ХХ века.Райнер Мария Рильке писал Цветаевой в 1926 году: «Ты, поэт, чувствуешь, как ты меня поразил… Я пишу, как ты, и, как ты, спускаюсь на несколько ступенек вниз от предложения в антресоль скобок. . » (Пастернак, Цветаева, Рильке: Письма, лето 1926. Перевод Маргарет Веттлин и Уолтер Арндт. Нью-Йорк, 1985).
Марина Цветаева родилась в Москве в 1892 году. Ее отец был основателем Московского музея изобразительных искусств, мать — пианисткой. Марина издала свой первый сборник стихов, «Вечерний альбом », «» в семнадцать лет.После революции, когда ее муж Сергей Эфрон воевал в Белой армии, Цветаева и две ее маленькие дочери оказались в ужасной нищете. Ее младшая дочь умерла от голода. В 1921 году Цветаева эмигрировала сначала в Берлин, затем в Чехословакию, а затем в Париж к своему мужу. Ее сборник стихов « Mileposts I » был издан в Москве в 1922 году, когда она эмигрировала, и вызвал большое восхищение Бориса Пастернака. В Праге Цветаева написала несколько своих лучших стихотворений, опубликованных в Париже в ее сборнике « После России ».Другие книги, опубликованные ею в эмигрантский период, включают «Расставание, » (Берлин, 1921 г.), стихотворений Блоку, (Берлин, 1923 г.) и «Психея, » (Берлин, 1923 г.). Бедность, которую Цветаева пережила в послереволюционной России, последовала за ней в эмигрантские годы. Верность мужу вернула Цветаеву в Советский Союз. Через два месяца после приезда Цветаевой в Москву ее дочь Ариадна была арестована; через месяц арестовали и ее мужа. Когда немцы напали на Россию, Цветаева была эвакуирована в Елабугу в Средней Азии.Не найдя себе работы и еды для сына, она повесилась 31 августа 1941 года.
»Подробнее о Марине Цветаевой
Переведено с русского от Нина Косман
Нина Коссман, уроженка Москвы, является автором двух сборников стихов на русском и английском языках. Она перевела два тома поэзии Марины Цветаевой: В сокровенный час души и Поэма конца . Ее переводы русской поэзии были включены в книгу Нортона World Poetry и в антологии изданий Doubleday, Harcourt Brace и Oxford University Press. За границей, сборник рассказов о ее московском детстве, был опубликован William Morrow & Co. в 1994 году и переведен на японский язык (Токио, 1994). Ее проза транслировалась в программе рассказов Всемирной службы Би-би-си, а ее стихи и рассказы печатались в российских, американских, британских и голландских периодических изданиях. Она отредактировала Gods and Mortals: Modern Poems on Classical Myths, антологию, опубликованную Oxford Unversity Press в 2001 году. Две из ее пьес были поставлены в Нью-Йорке, а ее одноактный Miracles включен в Women Playwrights : Лучшие пьесы 2000 года.
»Подробнее о Нине Косман
.


